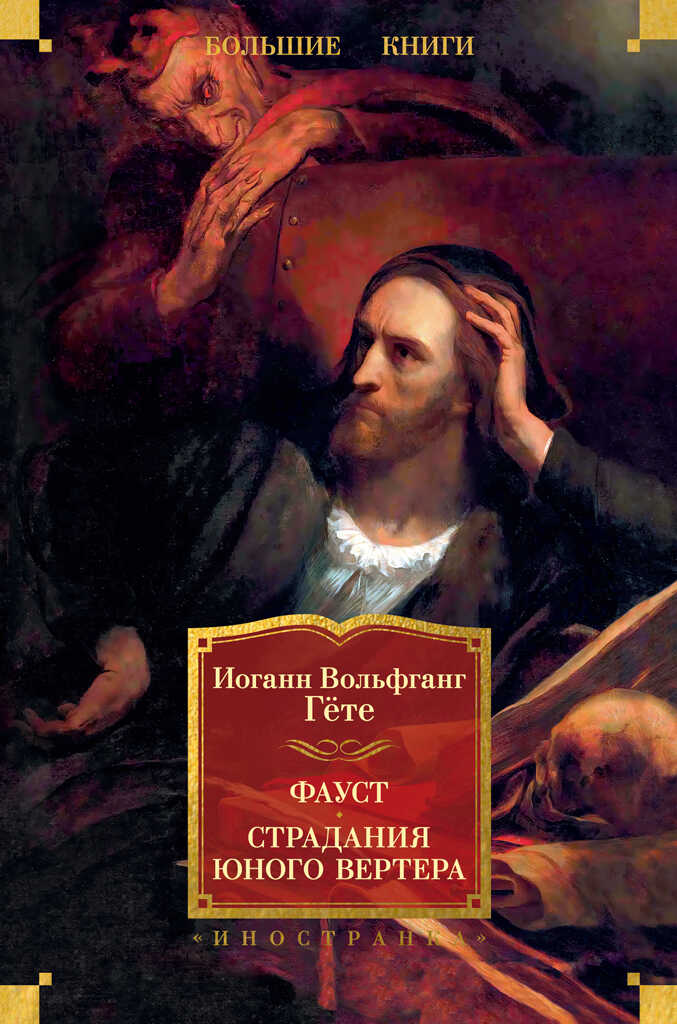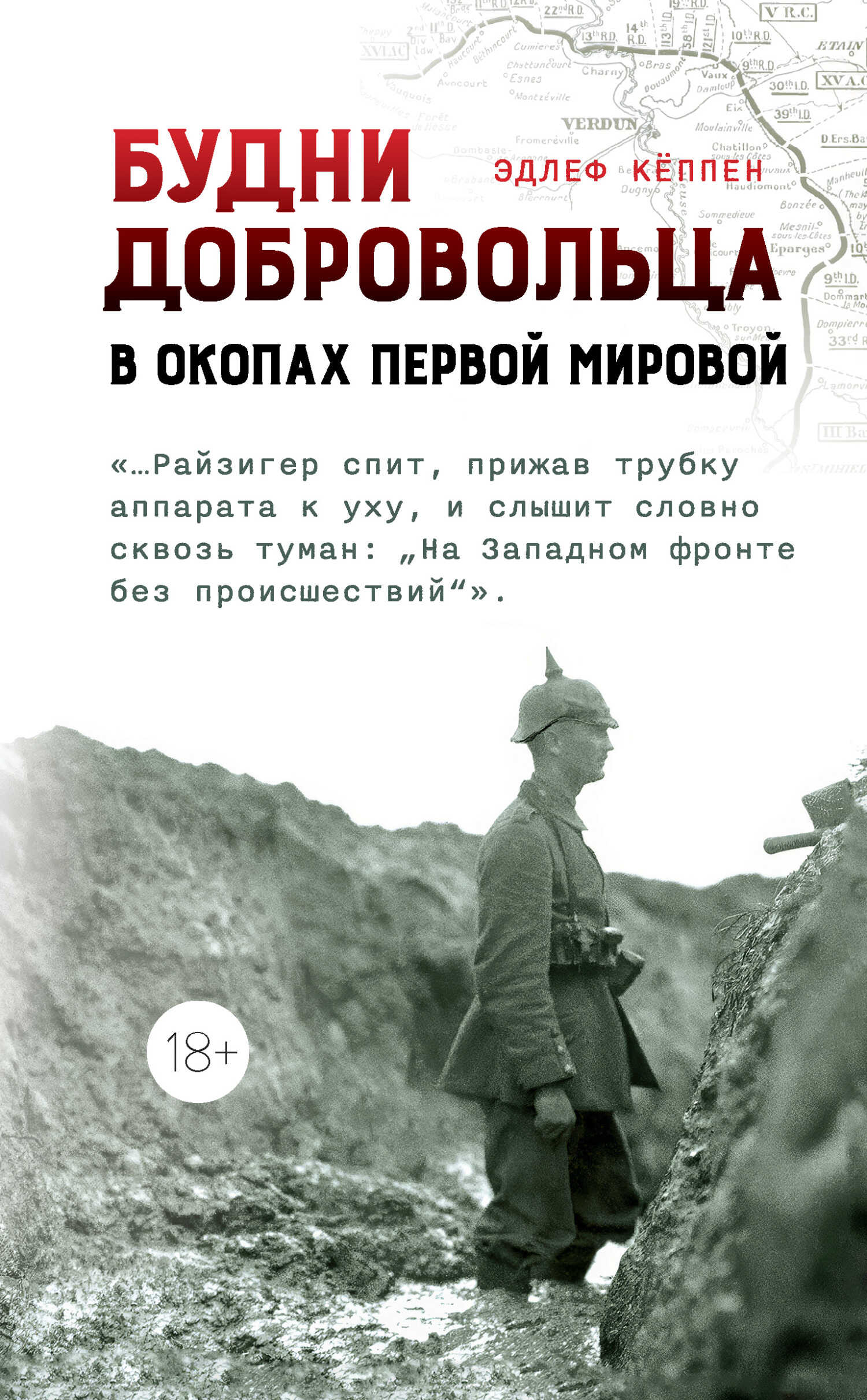же протянула руку, чтобы удержать его, утренний звонок, крик ворона, предвещающий беду в их домике, который они берегли, с таким трудом поддерживали, хижина дяди Тома, каменный домик, домик цветного гражданина, добропорядочного человека, но телефон звонил издалека, его голос шел из мира белых, враждебного мира, голос, который пугал их, хотя они его жадно ждали, еще до того, как в телефонной трубке раздался шорох и ожидание сбылось, они уже знали, что это его голос, голос их сына, почему он остался? Их блудный сын, не нужно было забивать телят, его самого предназначили на убой, он прошел через всю войну и остался жив, он отслужил свой срок и остался в армии, зачем ему это надо? Германия, Европа, их ссоры так далеки, русские, почему же не русские? Наш сын сержант, его фотография в военной форме — на буфете, между мельхиоровым кофейником и радиоприемником, красные наступают, дети любят леденцы, чего он хочет? Ах, они догадывались, и он знал, что они догадываются: обстоятельства! Старик снимет трубку, назовет свое имя, его отец — старший на элеваторе. Вашингтон кувыркался в зерне, однажды он едва не задохнулся, малыш в комбинезончике в красно-белую полоску, черный гномик посреди изобилия, посреди огромного желтого пшеничного моря: хлеба. «Алло!» Сейчас ему придется сказать: Карла, белая женщина, ребенок, он больше не вернется, он женится на белой женщине, ему нужны деньги, деньги, чтобы жениться, деньги, чтобы спасти ребенка, этого им нельзя говорить, Карла грозится пойти к врачу. Вашингтон хочет, чтобы старики отдали ему часть того, что скопили, он объявит им, что женится, он расскажет о ребенке, разве они поймут? Они поймут. Обстоятельства, сыну нужна помощь. Ничего хорошего: грех. Но грех не перед богом — грех перед людьми. Они уже видят дочь чужого племени в негритянском квартале Батон-Ружа, женщину с другим цветом кожи, женщину с другого края земли, с другой стороны рва, видят район цветных, улицу расового неравенства, как он будет жить с ней? Каково ему будет, когда она начнет плакать? Слишком тесен будет им дом, домик в гетто, чистенькая хижина дяди Тома и шелест деревьев в аллее, неторопливое течение реки, широкой и глубокой, а в глубине — покой, музыка из соседского дома, шепот голосов по вечерам, темных голосов, этого для нее слишком много, слишком много голосов, и все же лишь один голос слишком сдавленный, слишком глухой, слишком близкий, слишком темный, чернота, и ночь, и воздух, и тела, и голоса как тяжелый бархатный занавес, тысячами складок закрывающий день. Вот наступит вечер — поведет ли он ее на танцы в гостиницу «Наполеон»? Вашингтон это понимает, понимает не хуже, чем они, его старые родители, добрые старые родители в коридоре дома под шелестящими деревьями, у журчащей реки, в бархатных складках ночи, перед входом в бар «Наполеон» будет висеть табличка с надписью, вечером, перед началом танцев, перед вражеской женщиной, вражеской подругой, возлюбленной из вражеского стана, которую он не завоевал, как добычу, а добился, выслужил, подобно Иакову, домогавшемуся Рахили, никто не увидит этой надписи, но все прочтут ее, в глазах каждого из них можно будет прочесть: белых просят не входить. Разговор заказан. Вашингтон говорит по телефону через океан, его голос опережает утреннюю зарю, голос его отца невесело выплывает из ночи, а на табличке, некогда прикрепленной к той самой двери на переговорном пункте, которую прикрыл за собой Вашингтон Прайс, была надпись: только не для евреев. Об этой табличке узнал тогда президент Рузвельт, ему сообщили о ней дипломаты и журналисты, и, сияя у камина, он рассказывал о звезде Давидовой — звезде страданий, и речь, произнесенная им у камина, волнами бежала в эфир и излучалась из приемника, стоявшего рядом с мельхиоровым кофейником в хижине дяди Тома, и распускалась в сердцах. Вашингтон стал солдатом и пошел на войну, вперед, солдаты-христиане, и в Германии исчезли гнусные лозунги и были сорваны, сожжены и спрятаны таблички с противоестественными надписями, заставлявшие краснеть каждого, кто их видел. Вашингтон получил военные награды, зато в отечестве, которое прикрепило ему на грудь орденскую планку и медали за отвагу, в его отечестве утвердились высокомерные надписи, укоренились мысли выродков, неважно, были они напечатаны большими буквами или нет, и вывешены таблички: только для белых. Обстоятельства. Вашингтон совсем в них запутался. И вот он мечтает, рассказывая родителям о своей возлюбленной (Ах, ее нельзя не любить! Нельзя не любить? Да разве это не высокомерие? Высокомерие с его стороны? Вашингтон против всех? Вашингтон — рыцарь, сражающийся с предрассудками и беззаконием?), он мечтает и, мечтая, он видит себя владельцем маленького отеля, славный, уютный бар, а на двери венок из разноцветных, никогда не потухающих лампочек обрамляет надпись: вход открыт для всех — и это будет его гостиница, Washington's Inn[19]. Как им растолковать это? Он далеко в Германии, они далеко на берегу Миссисипи, и огромен мир, и свободен мир, и порочен мир, и в мире ненависть, и полно насилия в мире, почему? Потому что все боятся. Вашингтон вытирает мокрое от пота лицо. Белый носовой платок порхает пойманной птицей в клетке. Они переведут ему деньги, добрые старые родители, деньги на свадьбу, деньги на роды: деньги — это тягостный труд, пот, тяжелые лопаты, полные зерна, деньги — это хлеб и новые обстоятельства, и нам сопутствуют беды…
Но в ее теле шевелился ребенок, и потому она тоже боялась видимых и невидимых табличек снов царя Небукадне, валтасаровых надписей, которые могут изгнать ее из рая автоматизированных кухонь и пилюль с гарантией. Только для белых, только для черных, это касалось их обоих, и, сам того не зная и не желая, отец ее сына отправился воевать за то, чтоб было только не для евреев. Ей был нежелателен новый ребенок, темный, разномастный, который лежал в своем убежище, еще не зная, что он станет диким плодом, лишенным ухода садовников, что вина и упреки отяготят его жизнь еще до того, как он заслужит упреки и чем-нибудь провинится, и она стояла в кабинете врача, долго он еще будет ее осматривать? Она все знала сама, ей незачем было садиться в кресло, она хотела хирургического вмешательства, скоблежки, он должен ее выручить, разве он ей не обязан? Сколько он уже получил? Кофе, сигареты, дорогую водку, и это в такое время, когда не было ни кофе, ни сигарет, ни водки, не было даже горькой сивухи, он брал, а за что? Чтобы делать промывание, ощупывать, позволять
 Гость Светлана14 февраль 10:49
[hide][/hide]. Чирикали птицы. Благовония курились на полке, угли рдели... Уже на этапе пролога читать расхотелось. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
Гость Светлана14 февраль 10:49
[hide][/hide]. Чирикали птицы. Благовония курились на полке, угли рдели... Уже на этапе пролога читать расхотелось. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
 Гость Татьяна14 февраль 08:30
Интересно. Немного похоже на чёрную сказку с счастливым концом...
Игрушка для олигарха - Елена Попова
Гость Татьяна14 февраль 08:30
Интересно. Немного похоже на чёрную сказку с счастливым концом...
Игрушка для олигарха - Елена Попова
 Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная
Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная