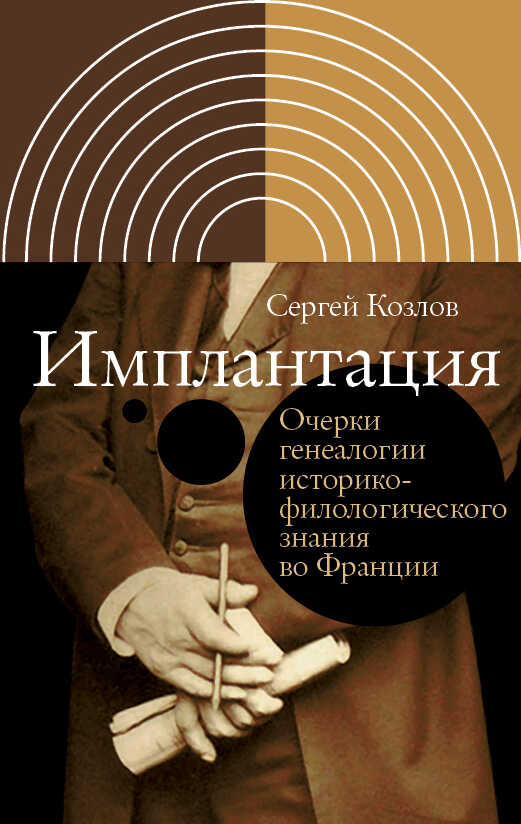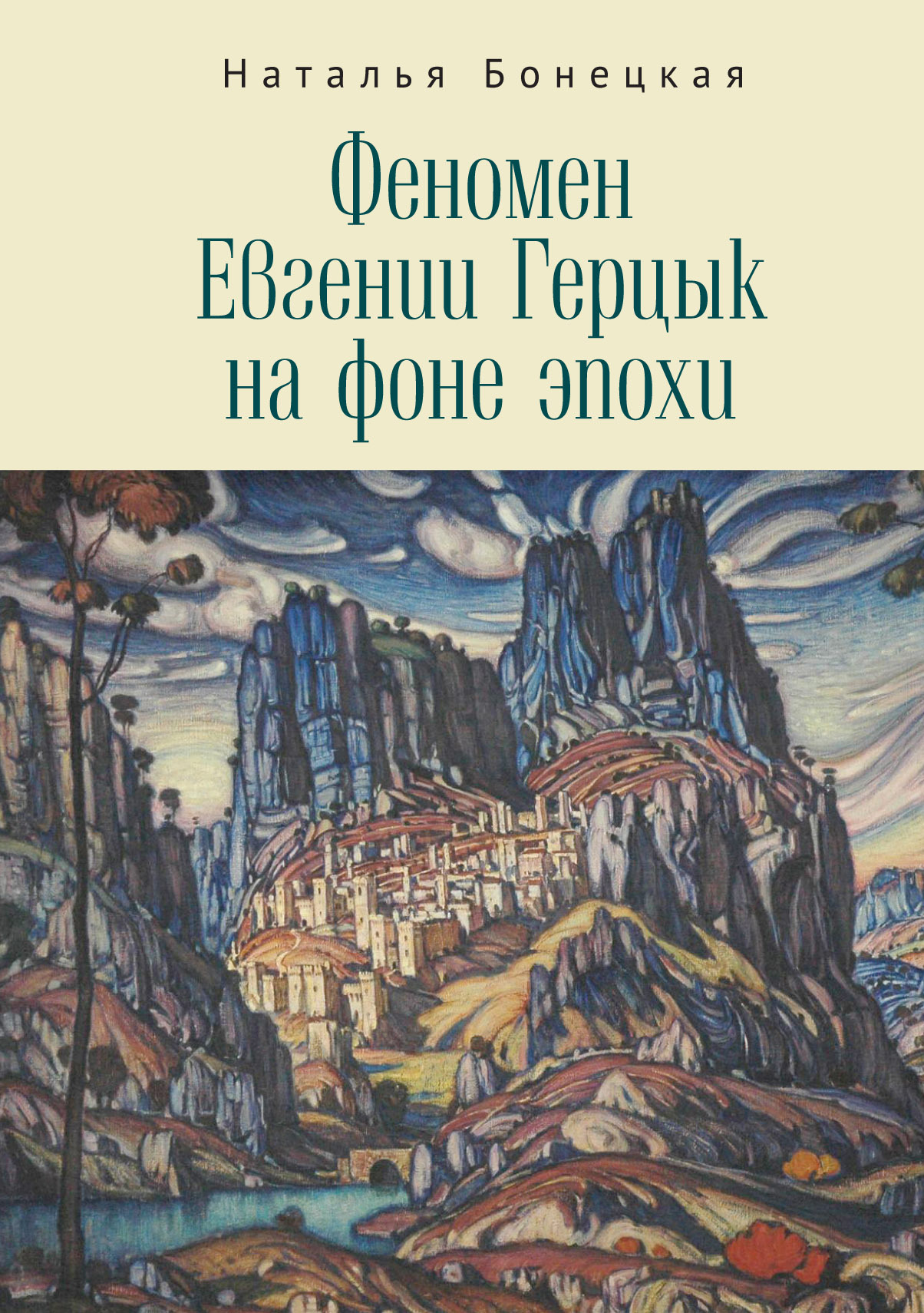Имплантация - Сергей Л. Козлов
Книгу Имплантация - Сергей Л. Козлов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту abiblioteki@yandex.ru для удаления материала
Книга Имплантация - Сергей Л. Козлов читать онлайн бесплатно без регистрации
Как возникает великая гуманитарная наука? Как происходит переформатирование национальной культуры? В центре внимания автора находится формирование «историко-филологических наук» как особой констелляции дисциплин, борьба за онаучивание гуманитарного знания, широко развернувшаяся во Франции начиная с 1860‐х годов. Речь шла о том, к какой сфере должно принадлежать гуманитарное знание – к сфере литературы или к сфере науки. Во Франции XIX века этот процесс наталкивался на мощную преграду, состоявшую из целого набора институциональных барьеров и освященных традицией стереотипов мышления и поведения. Фактически все устройство французской культуры препятствовало превращению гуманитарного знания в строгую науку. На протяжении десятилетий и десятилетий то, чем занимались и что проповедовали герои этой книги, воспринималось некоторыми их современниками как глубоко нефранцузская, более того – антифранцузская деятельность. Но именно она принесла Франции мировую славу в ХХ веке.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сергей Козлов
Имплантация
Очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции
Гале
Предисловие
Предмет этой книги – борьба за онаучивание гуманитарного знания, широко развернувшаяся во Франции начиная с 1860‐х годов. Речь шла о том, к какой сфере должно принадлежать гуманитарное знание – к сфере литературы или к сфере науки? Иногда эту коллизию рассматривают исключительно в связи с категорией позитивизма и сводят (когда говорят о Франции) к специфической повестке дня, характерной для второй половины XIX века. В фокусе нашего внимания будет находиться именно вторая половина XIX века – но тем не менее мы в этой книге будем исходить из более удаленной точки зрения на вышеуказанную дилемму и связанные с ней конфликты. С этой более удаленной точки зрения, борьба между сторонниками научности и сторонниками литературности гуманитарного знания началась не в 1860‐е годы и не закончилась в начале 1900‐х годов. Мы будем придерживаться допущения, согласно которому колебания между литературностью и научностью гуманитарного знания до известной степени имманентны самому этому знанию.
В этом смысле наша аксиоматика принципиально подобна концепции Вольфа Лепениса, развитой в его книге «Три культуры: социология между литературой и наукой» [Lepenies 1985]. Отличия нашей книги от книги Лепениса связаны, во-первых, с дисциплинарным членением материала: если книга Лепениса была посвящена судьбе социологии, то нас будет интересовать судьба историко-филологического знания. Второе отличие этих очерков от очерков Лепениса обусловлено географическим охватом проблемы: Лепенис прослеживал развитие своего сюжета в интернациональном масштабе, тогда как мы ограничиваемся исключительно французским материалом. Соответственно, если у Лепениса при постоянной смене национальных мест действия главной и едва ли не единственной референтной категорией, обеспечивавшей связность проблематики, была категория дисциплины, то в нашей книге связность проблематики определяется не только и даже не столько категорией дисциплины (к тому же нас будет интересовать не какая-то одна дисциплина, а целый пучок дисциплин), сколько категорией национальной культуры.
Дело в том, что во Франции XIX века онаучивание гуманитарного знания натыкалось на мощную преграду, состоявшую из целого набора институциональных барьеров и освященных традицией стереотипов мышления и поведения. Фактически все устройство французской культуры препятствовало превращению гуманитарного знания в строгую науку. Мысль о гуманитарных изысканиях как о профессиональной исследовательской работе, оплачиваемой государством[1] и родственной естественнонаучным исследованиям, – мысль эта находилась в вопиющем противоречии со всей системой ценностей и функций, сложившихся во французской культуре Старого порядка и подтвержденных как в наполеоновскую эпоху, так и при Реставрации, а затем и при Июльской монархии. Сама возможность применять к гуманитарным занятиям слово наука (science) была первоначально немыслима для этой культуры. На протяжении десятилетий и десятилетий то, чем занимались и что проповедовали герои этой книги, воспринималось некоторыми их современниками как глубоко нефранцузская, более того – антифранцузская деятельность. Но именно эта антифранцузская деятельность принесла Франции мировую славу в ХХ веке.
Поэтому тема данного исследования представляла для автора интерес двоякого рода. Изучать процесс онаучивания историко-филологического знания во Франции – значило, во-первых, приблизиться к пониманию того, как сформировалась великая французская гуманитарная наука XX века. Во-вторых же, это значило изучать опыт внедрения новой культурной практики в совершенно враждебную этой практике социокультурную среду. Как возникает великая гуманитарная наука? Как происходит переформатирование национальной культуры? Эти два вопроса определяли мой интерес к теме, мою точку зрения на предмет – и вряд ли требует особых пояснений то, что сами эти вопросы были продиктованы временем и местом, в которых находился исследователь.
Пять эпиграфов, открывающих книгу, указывают в своей совокупности на два основных значения, которые имеет здесь метафора имплантации. С одной стороны, речь идет о разработке и внедрении в социальную ткань новых институтов, призванных внести в жизнь общества некие нормы и ценности, уже функционирующие на уровне международном, но до сих пор не реализовавшиеся на национальном уровне данной страны. В этом аспекте метафорика имплантации соприкасается с тем кругом значений, который охватывается в современном научном лексиконе понятием имплементация. Сравним, например, с нашим описанием определение правовой имплементации, которое дает русская Википедия:
Имплементация (международного права) (англ. Implementation – «осуществление», «выполнение», «практическая реализация») – фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-правовых норм в национальную правовую систему. Главное требование имплементации – строгое следование целям и содержанию международного установления.
Способами имплементации являются: инкорпорация; трансформация; общая, частная или конкретная отсылка [https://ru.wikipedia.og/wiki/Правовая_имплементация].
С другой же стороны, уже самый первый из пяти эпиграфов указывает на то, что речь идет о «внедрении Германии во Францию». Иначе говоря, речь идет о межкультурных, межстрановых заимствованиях, о культурном импорте, происходящем по оси Франция – Германия. В этом плане метафорика имплантации практически совпадает по своему содержанию с широко утвердившимся сегодня в языке гуманитарных наук понятием культурного, или межкультурного, трансфера. Об этом аспекте – точнее, о степени изученности этого аспекта применительно к нашему материалу – следует сказать подробнее.
Франко-германские культурные взаимодействия в XIX – первой половине XX века – тема, к настоящему моменту изученная достаточно хорошо. Глубокому изучению была подвергнута именно та грань этой темы, которая наиболее важна в контексте нашей книги. Имеется в виду совершенно особая роль Германии как значимого Другого для самосознания французской культуры XIX – первой половины XX века. Эту роль альтернативной культурной модели Германия стала играть для французской культуры начиная с 1813 года – с момента выхода книги г-жи де Сталь «О Германии». На протяжении последующих десятилетий эта роль росла и росла – тем более что с 1870 года, с разгрома Франции во франко-прусской войне, Германия была уже не просто значимым Другим, а Соперником, Врагом и Победителем. Начиная с 1870‐го и на весь период до 1914 года отношение Франции к Германии становится специфически-напряженным отношением побежденного к победителю, со всеми противоречивыми обертонами, характерными для этого типа межстрановых отношений (на широком сравнительном материале варианты отношений «побежденный – победитель» были рассмотрены Вольфгангом Шивельбушем в его книге «Культура поражения» [Schivelbusch 2001]).
Во французской науке первопроходческую роль в разработке этой темы сыграла диссертация Клода Дижона «Немецкий кризис французской мысли, 1870–1914», вышедшая отдельным изданием в 1959 году [Digeon 1959]. Диссертация Дижона замечательна объемом охваченного материала и до сих пор не утратила своего научного значения (во Франции она была переиздана в 1992 году). Но широкая систематическая разработка темы в указанном аспекте (впрочем, в более широких хронологических рамках) началась с конца 1970‐х годов и не прекращается по сей день. Этой темы касаются исследователи из самых разных стран, однако флагманскую роль в ее разработке сыграли труды французских ученых. Причем во французской науке начиная с конца 1970‐х годов она разрабатывается в теснейшей увязке с двумя другими темами: историей образования и историей филологии. Это как раз тот самый проблемно-тематический узел, которому посвящена вся основная часть нашей книги. Выбрав для изучения этот узел, мы тем самым автоматически оказывались в фарватере, проложенном исследованиями покойного Жана Боллака (1923–2012) и его ученика Пьера Жюде де Лакомба, а также Михаэля Вернера, Кристофа Шарля и Мишеля Эспаня. Назвав имя Эспаня, нельзя не отметить еще один нюанс. Именно Эспань утвердил в широком научном обиходе понятие «культурный трансфер» (transfert culturel). И проблематику культурных трансферов Эспань, будучи по своей исходной специализации германистом, разрабатывал прежде всего на материале франко-германского межкультурного взаимодействия. В этом смысле можно сказать, что франко-германское взаимодействие является образцовым полигоном культурных трансферов, изначально служит их моделью.
В нашей книге невозможно было не учитывать результатов работы всех перечисленных выше исследователей и их учеников (как, впрочем, и их коллег из других стран). Вместе с тем именно потому, что франко-германские межкультурные отношения уже подверглись такой последовательной концептуализации через категорию культурного трансфера, мы не стали специально фокусироваться на этой концептуализации. Мы принимаем во
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная
Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная
-
 Гость Таня08 февраль 13:23
Так себе ,ни интриги,Франциски Вудворд намного интересней ни сюжета, у Франциски Вундфорд намного интересней...
Это моя территория - Екатерина Васина
Гость Таня08 февраль 13:23
Так себе ,ни интриги,Франциски Вудворд намного интересней ни сюжета, у Франциски Вундфорд намного интересней...
Это моя территория - Екатерина Васина
-
 Magda05 февраль 23:14
Беспомощный скучный сюжет, нелепое подростковое поведение героев. Одолеть смогла только половину книги. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
Magda05 февраль 23:14
Беспомощный скучный сюжет, нелепое подростковое поведение героев. Одолеть смогла только половину книги. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова