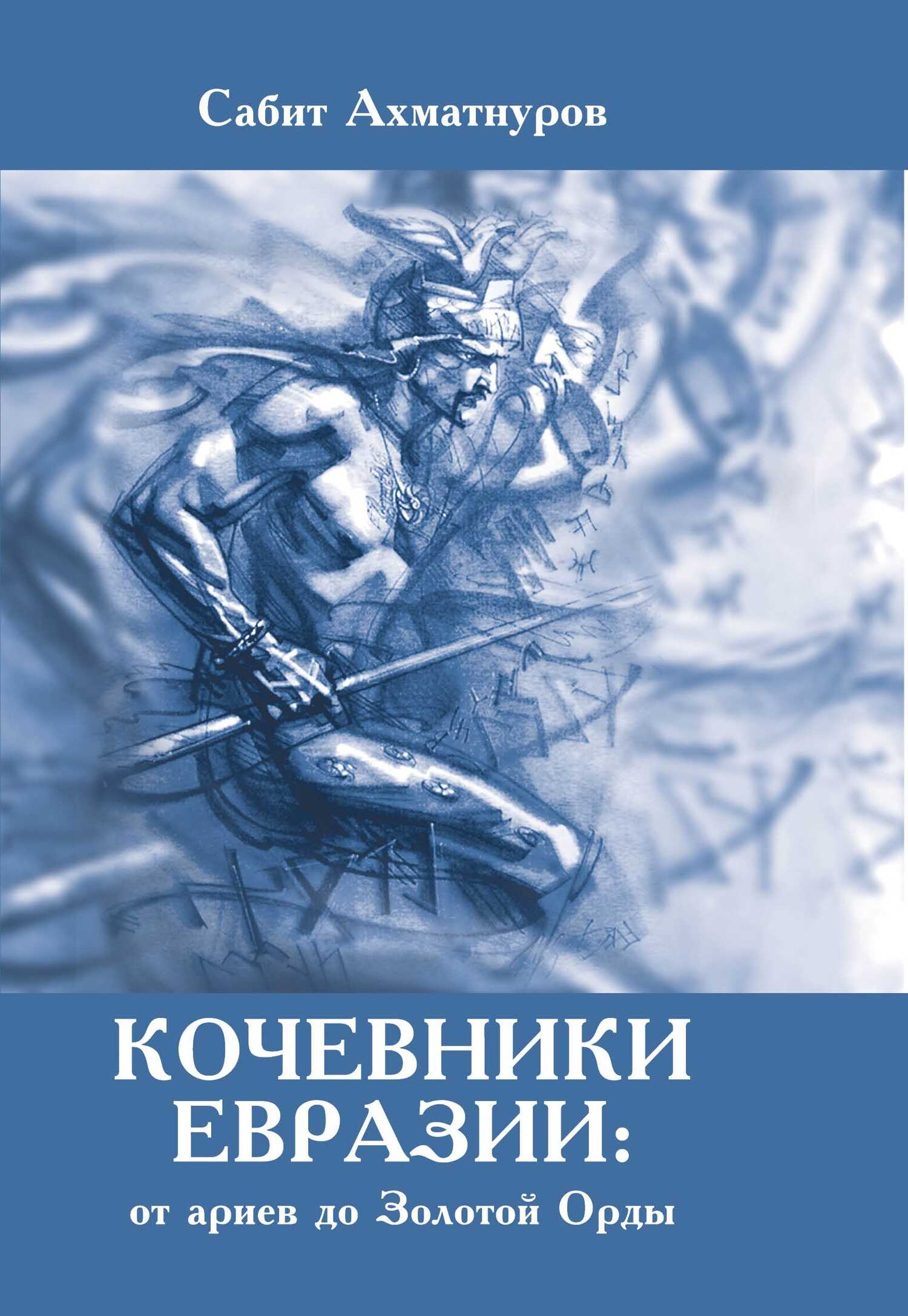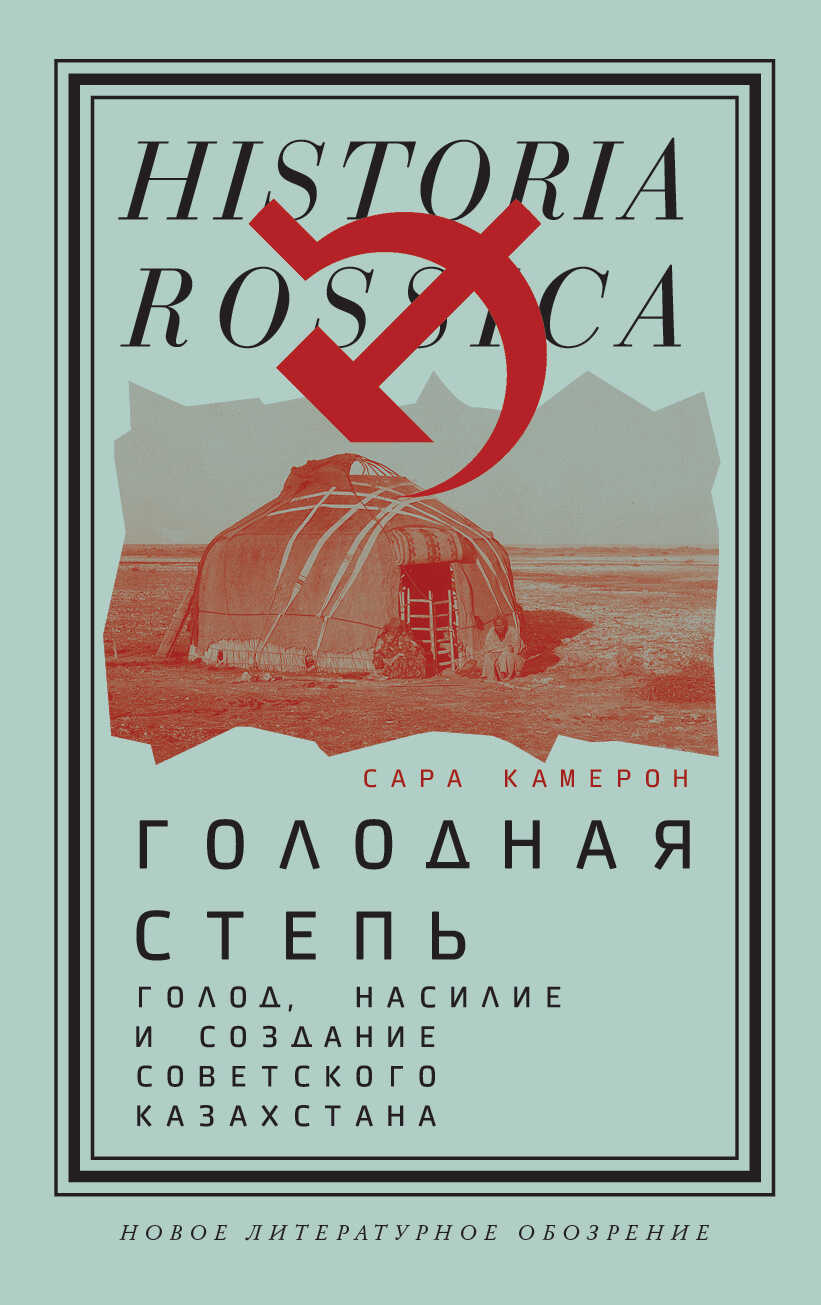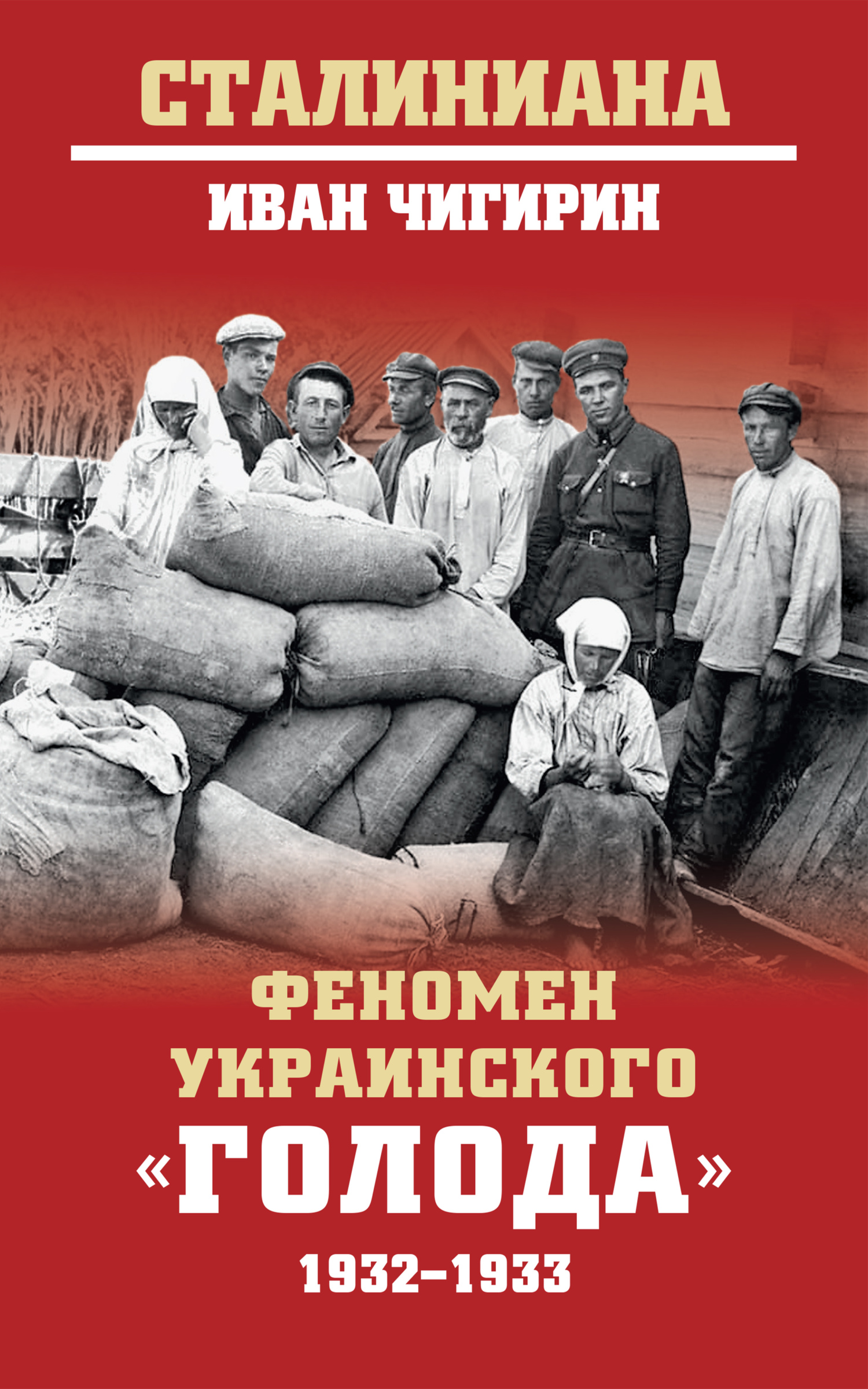Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане - Роберт Киндлер
Книгу Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане - Роберт Киндлер читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Казахские коммунисты, подобно своим товарищам в других исламских регионах Советского Союза[236], пытались распространять прогрессистские идеи в первую очередь среди женщин. Положение женщины служило для них показателем прогрессивности или отсталости общества. Глядя на казахский аул, они убеждались, что казашки угнетены, бесправны и обездолены. Тот, кто поможет этим женщинам поднять голову, рассуждали они, сумеет сломать и революционизировать косные социальные структуры[237]. Между тем работу активистов в данной области осложняли бесчисленные препятствия, включая отсутствие кадров (женских), незнание языка и нехватку транспорта. Естественно, при таких обстоятельствах многие женотделы действовали в основном среди русских женщин в городах. Большим успехом считалось, если какие-то из женотделов хоть раз дерзали выбраться за город к казашкам[238]. Но это мало способствовало созданию казахского «эрзац-пролетариата»[239].
В отличие, например, от Узбекистана, в Казахстане коммунисты не могли сделать символом предполагаемого угнетения женщин паранджу[240]. Кочевницы в большинстве своём носили только платок на голове. Характерного для других частей Средней Азии обычая закрывать лицо у них не было — главным образом по практическим причинам[241]. В результате казахские активисты сосредоточились на других вопросах. Они боролись прежде всего против калыма за невесту[242] и многожёнства. Унизительно, когда девушек, словно товар, обменивают на деньги или скот, доказывали адепты «эмансипации не носящих паранджу»: уплатой калыма женщину низводят до положения покупаемой вещи. Кроме того, эта отвратительная традиция ущемляет небогатых мужчин, которые не в состоянии собрать требуемую сумму. Они просто не могут себе позволить жениться и завести собственный дом[243]. Широко распространённая полигамия тоже явно свидетельствует о женском бесправии в Средней Азии[244].
Меры по борьбе с калымом и другими культурно обусловленными бытовыми явлениями женщин практически не затрагивали. Репрессии направлялись почти исключительно против мужчин, которые — во всяком случае, в представлении коммунистов — делали с женщинами что хотели[245]. В материалах ОГПУ полным-полно сообщений о мужчинах, имеющих трёх жён[246]. Многие отцы, не довольствуясь однократным калымом за дочерей, по нескольку раз требовали доплату за их детей[247]. Подобных обычаев не чурались и члены партии. Например, товарищ Мукушев из Акмолинской губернии заплатил калым за пятнадцатилетнюю девочку, которую взял второй женой. Об этом прямо информировали секретаря губкома, но тот не стал вмешиваться[248]. Однако львиная доля таких случаев вообще не находила отражения в документах, ещё меньше было число тех, кто понёс наказание, — лишнее свидетельство глубокой укоренённости значительной части казахской парторганизации в той самой среде, с которой она пыталась бороться[249]. Впрочем, советские эмансипационные программы тысячам женщин предоставляли шансы на выдвижение и карьеру[250], которыми те пользовались, невзирая на все препятствия и противодействие своего окружения[251].
Ещё одна (и для «диктатуры пролетариата» сама собой напрашивающаяся) возможность проникновения в общество заключалась в «создании» рабочих. Там, где рабочий класс отсутствовал, следовало сотворить его из ничего. В казахской степи это выглядело ещё более бесперспективным делом, чем в среднеазиатских оазисах. Тем не менее именно здесь коммунисты взялись «ковать» пролетариев. Непосредственным поводом для этого послужило в конце 1920-х гг. строительство Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиба), крупнейший для того времени инфраструктурный проект в степи. Эта железнодорожная линия должна была связать среднеазиатские окраины с европейской метрополией и помочь эффективнее осваивать ресурсы региона[252]. Но у неё имелось гораздо более важное предназначение — стать орудием советизации степной глуши[253].
Большинство из более чем 50 тыс. рабочих, трудившихся на прокладке свыше 1400 км рельсовых путей, набрали из местного населения. Им предстояло составить авангард казахского пролетариата. Кое-кто из коммунистов даже выражал надежду, что по окончании работ эти люди станут пропагандистами советского образа жизни в своих аулах. Однако пролетаризация казахов происходила не так уж гладко. То и дело случались стычки с применением насилия между европейскими рабочими и казахами, поскольку первые зарились на рабочие места вторых. Казахи толпами сбегали со стройки из-за плохого обращения с ними начальства и коллег[254]. Большие ожидания от коллективного перевоспитания трудом не сбылись. Тем не менее кое-кому из казахов участие в строительстве казалось чрезвычайно привлекательным, потому что предоставляло людям, которых общество маргинализировало, возможность подняться по социальной лестнице. С этой точки зрения, беднейшие слои населения впервые получили хоть какую-то альтернативу традиционным формам жизненного уклада[255]. Некоторые «новоиспечённые рабочие» становились поклонниками идеалов советского строительства и коммунистами. И всё же такие «истории успеха» оставались исключениями[256].
Дебаты об оседлости
Оседлые вели более «современную» жизнь, чем кочевники, и по сравнению с мобильными скотоводами являлись более эффективными производителями; во всяком случае, таково было твёрдое убеждение большевиков[257]. Между тем неизбежный, согласно историческому материализму коммунистов, переход от одного способа производства к другому совершался мучительно медленно. Правда, число кочевых и полукочевых хозяйств в Казахстане в течение 1920-х гг. постепенно снижалось, но не обязательно по причине сознательного поворота к «современности». Оседлыми становились прежде всего обедневшие казахи, которые больше не могли позволить себе кочевать. Богатые так и оставались кочевниками. Ведь для того, чтобы перевозить с собой юрты, домашний скарб и семью, требовалось иметь в хозяйстве определённый минимум животных, а казахские стада после кризисов 1916–1922 гг. изрядно поредели. Так что, вопреки хлёсткой фразе Оуэна Латтимора «настоящий кочевник — бедный кочевник», верно, скорее, обратное, как показал А.М. Хазанов. Переход к оседлости в большинстве случае оказывался связан с утратой статуса[258].
Все больше казахов ради выживания нанималось в работники к европейским крестьянам. Некоторые пробовали хозяйствовать сами[259]. Но немалое количество из них стремилось просто заработать достаточно, чтобы через некоторое время получить возможность снова вести кочевое существование — обычная практика и в других сформировавшихся под влиянием кочевников обществах[260]. Известный большевик Я.Э. Рудзутак понял это ещё во время голода 1921 г. Совершая поездку по Семиречью, он признал, что многие казахи сделались оседлыми не по убеждению, а исключительно из нужды: «Часть этих киргиз при распределении байского скота, как только им удастся обзавестись своим скотоводческим хозяйством, несомненно вернётся опять к кочевому образу жизни, но несомненно также, что другая часть останется на земле и будет работать»[261]. Так и выходило. Даже в этнически неоднородной Семипалатинской губернии с большой долей русских крестьян-поселенцев из чуть более чем 140 тыс. казахских хозяйств, зарегистрированных во время переписи 1926 г., свыше 80% были кочевыми[262]. При таких обстоятельствах коммунистам поначалу не оставалось ничего другого, кроме как позволять казахам
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Юлия12 ноябрь 19:36
Милый, добрый, немного наивный .. читать приятно)...
Обмануть судьбу - Джулия Тиммон
Гость Юлия12 ноябрь 19:36
Милый, добрый, немного наивный .. читать приятно)...
Обмануть судьбу - Джулия Тиммон
-
 Гость Юлия11 ноябрь 09:30
О, роман что надо! ...
Не отпускай моей руки - Люси Эллис
Гость Юлия11 ноябрь 09:30
О, роман что надо! ...
Не отпускай моей руки - Люси Эллис
-
 Гость Юлия10 ноябрь 17:15
Вот роман то, что надо!)...
Продлить наше счастье - Мелани Милберн
Гость Юлия10 ноябрь 17:15
Вот роман то, что надо!)...
Продлить наше счастье - Мелани Милберн