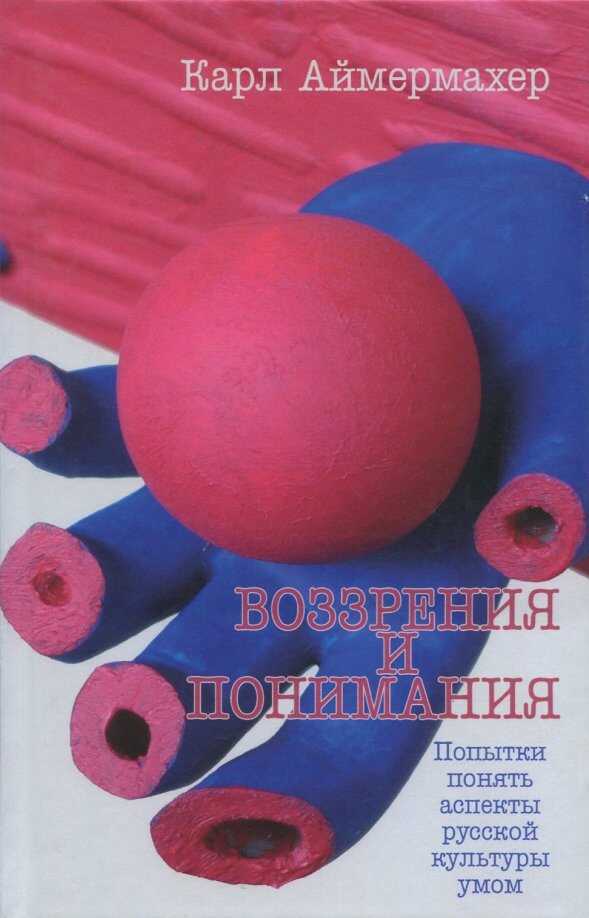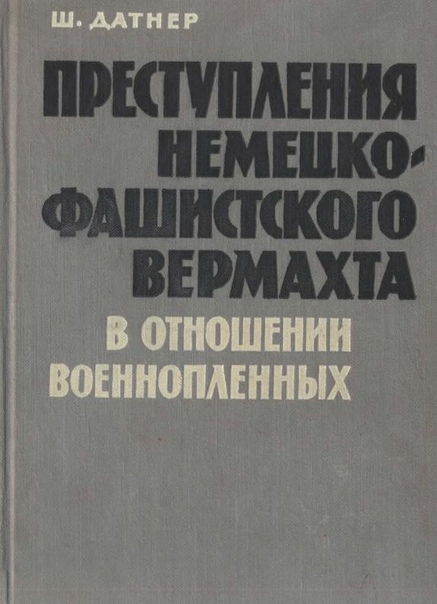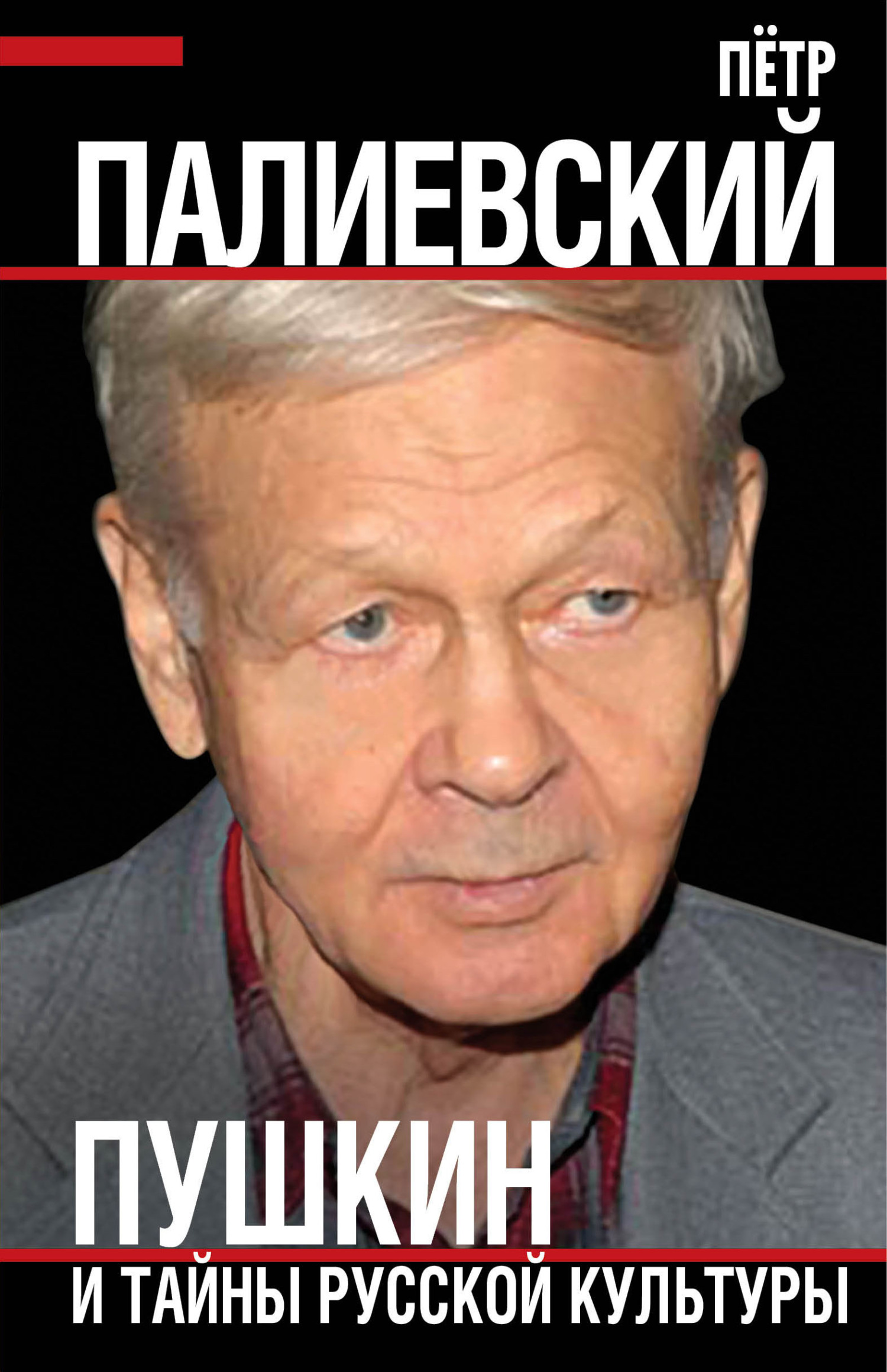Сумерки в полдень - Шимон Перецович Маркиш
Книгу Сумерки в полдень - Шимон Перецович Маркиш читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но обе эти особенности относятся скорее к числу формальных. По существу же всего важнее то, как — в отличие от нынешнего — воспринимал сценическое действие тогдашний зритель.
Начать с того, что сегодняшний зрительный зал резко делится на две категории — завсегдатаев и случайных посетителей. Если исключить премьеры и специальные просмотры, последних всегда неизмеримо больше, чем первых. В Древней Греции соотношение было как раз обратным. Огромные по сравнению с числом жителей театры вмещали если и не все взрослое население города, то очень значительную его часть. Если афинский театр состоял из 17 000 зрительных мест, это означает, что только на спектаклях большого фестиваля могли побывать все афиняне — и граждане, и метеки, и даже рабы. Так оно и бывало на самом деле, причем доступ в театр был открыт и женщинам.
Далее, для сегодняшнего зрителя (по крайней мере, в основном и в целом) спектакль — это развлечение, и только. Он идет в театр так же, как в цирк или на концерт модного певца, ценит в театральном зрелище по преимуществу занимательность, увлекательность („ох как интересно было!“, „чудо как смешно!“), иначе говоря — искусно построенный сюжет или остроумие. Оставляя пока в стороне комедию и рассматривая только трагедию, можно положительно утверждать, что для афинянина все обстояло совсем по-иному. Сюжет драмы заимствовался исключительно из мифологии, которая, как уже говорилось, была известна каждому не хуже, чем нынешнему абитуриенту — набор стихов и рассказов из школьной хрестоматии. Стало быть, древний театрал не рассчитывал увидеть что-либо „интересное“ в нынешнем смысле слова. Например, на „Царе Эдипе“ Софокла он знал с самого начала, что гордый царь Фив напрасно с таким упорством отыскивает виновника бедствий, которые постигли его город, что, сам того не ведая, Эдип убил родного отца и женился на родной матери. Сегодняшний зритель смотрит ту же трагедию как напряженнейший детектив, и когда истина, наконец, обнаруживается, он потрясен лишь немногим менее, чем невольный отцеубийца и кровосмеситель: по зрительному залу проносится шелест неописуемого изумления и ужаса. „Вот это закручено! Здорово!“
Отсюда с неизбежностью следует, что древняя трагедия не развлекала, а наставляла и поучала, что ее герои, оставаясь живыми, жизненными, вполне убедительными художественно персонажами древнего предания, были в то же время символами, олицетворяющими типические ситуации, важные для каждого из зрителей непосредственно. Символичность греческой драмы означает, с одной стороны, сочетание рационального воздействия с эмоциональным (поскольку мифологический сюжет был задан лишь в виде контура и от поэта зависело, чтобы „плоть“, наполняющая контур, была как можно более упруга и правдоподобна), призыв, обращенный разом и к интеллекту, и к чувству, и к воображению, а с другой — очень высокую степень художественного обобщения. Аристотель недаром ставил поэта выше историка на том именно основании, что последний говорит о единичном, а первый — об общем.
Действительно, проблемы, которые стоят за ситуациями греческой трагедии, предельно общи. Жизнь и смерть, страдания, их неизбежность, их смысл или бессмысленность, право и насилие, правда и кривда, божественное воздаяние... Сами древние, пытаясь определить жанр трагедии, никогда не упускали из виду двух черт — обобщенности и воспитательной силы. В одном из таких определений говорится, что предмет трагедии — страдания и гибель героев древности, а также погребальный плач по ним; трагический поэт учит зрителя воздерживаться от ошибок и заблуждений и примиряет его с собственными страданиями, чем и приносит существенную пользу обществу. Непосредственно связано с воспитательным воздействием греческой трагедии и то ее свойство, которое Аристотель называл „катарсисом“, т. е. очищением.
Катарсис — тот камень преткновения, о который с особым упорством и особой охотою спотыкаются исследователи античности. Дело в том, что „Поэтика“ Аристотеля — это, скорее всего, не законченное сочинение, а схематический конспект лекций, сделанный либо самим автором, либо даже кем-то из слушателей. Неудивительно, что в ней много неясностей, но ни одна из них не привлекала столько внимания, сколько пресловутый катарсис. Больше четырех столетий о нем рассуждают и пишут историки и теоретики литературы и искусства — и все никак не могут согласиться друг с другом. В самом деле, „Поэтика“ высказывается кратко и непонятно: „Посредством сострадания и страха трагедия совершает очищение подобных чувствований“. Но какому бы толкованию ни отдать предпочтение, почти все они согласны в одном: трагедия возвышает зрителя — над неведением ли, над темными ли подсознательными страхами, над порочностью ли — и тем самым оказывается наставницей жизни. Эсхил в „Агамемноне“ возглашает:
“Через муки, через боль
Зевс ведет людей к уму,
К разумению ведет“.
(Перевод С. Апта)
Так и трагедия: поднимая над повседневностью, она помогала найти если не смысл, то хоть подобие его в „жизни мышьей беготне“, и если не всегда могла ответить на вопросы, то хотя бы ставила их со всею остротой и определенностью великого искусства.
Символичность и обобщенность греческой трагедии означают развитую, изощренную драматургическую технику и возвышенный до предела стиль, местами чрезвычайно сложный для понимания. Об этом можно судить непосредственно, по сохранившимся текстам; по косвенным приметам можно судить о высоком уровне актерского мастерства. И зритель — рядовой, повседневный, „непремьерный“ — был способен все понять и все оценить, был чуток к нюансам, самым тонким и сложным, к намекам, самым отдаленным. Интеллигентность и восприимчивость публики — и необходимая предпосылка мифологического символизма древней трагедии, и ее следствие. Едва ли еще какой-нибудь театр — где бы то ни было, когда бы то ни было — может похвастаться такой аудиторией.
Комедия была противоположностью трагедии чуть ли не во всем
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Ирина20 январь 22:40
Очень понравилась история. Спасибо....
Очень рождественский матч-пойнт - Анастасия Уайт
Гость Ирина20 январь 22:40
Очень понравилась история. Спасибо....
Очень рождественский матч-пойнт - Анастасия Уайт
-
 Гость Ирина20 январь 14:16
Контроль,доминировать,пугливый заяц ,секс,проблемы в нашей голове....
Снегурочка для босса - Мари Скай
Гость Ирина20 январь 14:16
Контроль,доминировать,пугливый заяц ,секс,проблемы в нашей голове....
Снегурочка для босса - Мари Скай
-
 Людмила,16 январь 17:57
Очень понравилось . с удовольствием читаю Ваши книги....
Тиран - Эмилия Грин
Людмила,16 январь 17:57
Очень понравилось . с удовольствием читаю Ваши книги....
Тиран - Эмилия Грин