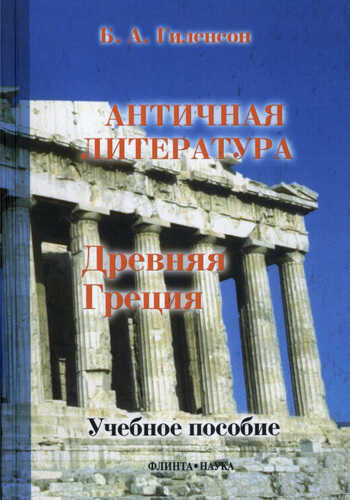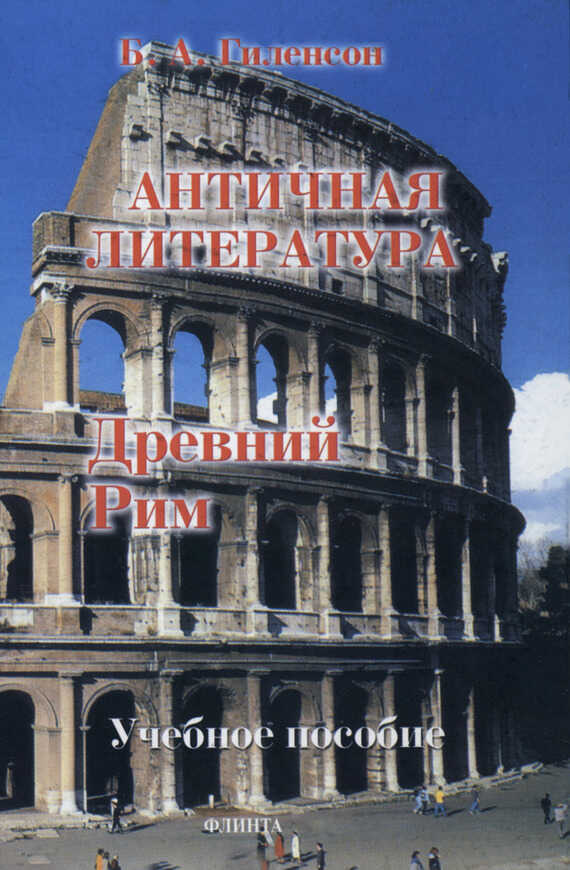«Языком Истины свободной…» - Арам Айкович Асоян
Книгу «Языком Истины свободной…» - Арам Айкович Асоян читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И здесь мы можем вернуться к прелюдии XIX столетия, в литературном быту которого заметную роль играла эпиграмма.
Глава 12
Прелюдия пушкинской эпиграммы
В XVIII веке шел процесс усвоения формы и социально-эстетических задач этого предельно короткого стихотворения. В течение нескольких десятилетий русские поэты пытаются применить заимствованные сюжеты к стихии родного языка, постигают загадки задора лаконичного жанра. В этом отношении примечательны стихи Кантемира, стоявшего у начала русской эпиграммы:
Что дал Гораций, занял у француза.
О, коль собою бедна моя муза!
Да верна; ума хоть пределы узки,
Что взял по-галльски – заплатил по-русски[448].
В большинстве случаев муза действительно верна поэту: он умеет прямолинейность сатирического выпада оживить язвительным намеком («На гордого нового дворянина»), затейливой парафразой придать неожиданную пикантность тексту («На старуху Лиду»), блеснуть кольцевой композицией, благодаря которой эпиграмма приобретает особую законченность («На Брута», «О прихотливом женихе»). Но не всегда чужая форма оказывается послушной поэту, порой малое пространство жанра становится камнем преткновения для Кантемира, и тогда он вынужден прибегать к прозаическим «изъяснениям».
Поэт хорошо владеет ремеслом двухчастной композиции, но еще новичок в искусстве пуанта; чаще всего это лишь афористическая концовка, в которой нет столь необходимого эпиграмме эффекта непредсказуемости. Кантемир рассудочен и лишен озорства. Его остроумие умно, но не заразительно. Эпиграммы поэта ближе к латинским, нежели французским, образцам этого жанра. А что касается адресата стихов, то их автор неизменно придерживался правила: «Имена утаены, одни злонравия сатирик осуждает». Очевидно, суждение Скалигера тоже казалось ему справедливым: epigrammatum tot genera sunt quot rerum. Среди эпиграмм Кантемира есть сатиры не только на светские пороки, но и на клерикально-политические несообразности («На икону святого Петра»).
Первым нарушил сатирический принцип поэта, желающего высмеивать злонравия, а не лица, В. Тредиаковский. Обрушившись на Ломоносова («Хоть глотку пьяную закрыл, отвисши зоб…»), он положил начало литературной эпиграмме; правда, весь ее яд пока еще направлен не на особенности творческой деятельности адресата, а на его личность как таковую. Считать эту эпиграмму литературной дает лишь повод, послуживший ее появлению. Другим новшеством, введенным Тредиаковским в русскую эпиграмматику, были силлаботониче-ские стихи. Силлаботоника и разнообразная рифмовка (перекрестная и смежная) в пределах одной композиции повышала возможности в овладении динамикой сюжета и интонирования стихотворной речи (см. эпиграмму «О, сударь, мой свет! Как уж ты спесив стал!..»), но в целом эпиграммы профессора элоквенции Академии наук громословны и тяжеловесны, как угрюмая сатира.
Следующий шаг в развитии эпиграммы принадлежит Ломоносову. Ему первому открылись секреты немногословной выразительности жанра. Это не значит, что у Кантемира и Тредиаковского мы не найдем предельно коротких стихотворений, но их малый объем не сопрягался с игровым характером поэтической формы. В них нет той «особенной замысловатости», которую, как существеннейшую черту эпиграмматической поэзии, отмечал в своей риторике А. Никольский[449]. Такая замысловатость предстает у Ломоносова либо парадоксальностью мысли:
Зачем я на жене богатой не женюсь?
Я выйти за жену богатую боюсь.
Всегда муж должен быть жене своей главою,
То будут завсегда равны между собою[450],
либо игрой слов:
Иные петлею от петли убегают
И смертию себя от смерти избавляют (Р. э., 70).
Наряду с такими остротами поэт начинает культивировать и сюжетную эпиграмму в духе Ж.-Б. Руссо (1671–1741), в которой после развитого повествования с введением действующих лиц и побочных мотивов следует неожиданная развязка (см. «На противников системы Коперника»). Другим не менее интересным моментом в развитии русской эпиграмматики стало появление у Ломоносова пародирующей эпиграммы. В 1748 г. он получил на отзыв трагедию А. Сумарокова «Гамлет», в ней была нечаянно двусмысленная фраза королевы Гертруды: «…И на супружню смерть не тронута взирала» (Р. э., 632). Иронизируя над этой строкой, рецензент немедленно отозвался эпиграммой:
Женился Стил, старик без мочи,
На Стелле, что в пятнадцать лет,
И, не дождавшись первой ночи,
Закашлявшись, оставил свет.
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что на супружню смерть не тронута взирала (Р. э., 71).
Кантемир, Тредиаковский и Ломоносов обращались к жанру сатирической эпиграммы эпизодически, иное дело – Сумароков. Он написал около ста эпиграмм и около двадцати эпиграмматических эпитафий. Об их популярности свидетельствует факт, что они входили в такие широко известные учебные руководства, как «Правила пиитические в пользу юношества» А. Байбакова и «Российская универсальная грамматика» Н. Курганова. В своем роде это была канонизация формы сумароковских эпиграмм. Об эпиграммах Сумароков писал:
Они тогда живут красой своей богаты,
Когда сочинены остры и узловаты;
Быть должны коротки, и сила их вся в том,
Что нечто вымолвить с издевкою о ком[451].
Вместе с тем художественная практика поэта исключала сколько-нибудь узкие представления о жанровых формах эпиграммы. У него немало стихотворений, приближающихся по своей фактуре к анекдоту. Вот пример:
Клеон прогневался, и злобою безмерной
На щедрых был он баб во гневе заражен.
«Я б всех, – он говорил, – постриг неверных жен.
Не знаю, для чего б тужить мне о неверной?»
Жена ему на то такой дала ответ:
«Так хочешь, чтобы я, сокровище, мой свет,
Ходила, как вдова, всегда в одежде черной?» (Р. э., 74)
Лишенные личных выпадов, порой намеренно наивные (stile marotique, по имени французского эпиграмматиста Клемана Маро 1495–1544)) или обыгрывающие наивное простодушие персонажа, такие стихи представляют собой типичные эпиграмматические сказки. Вероятно, Сумароков вслед за Лебреном (1729–1807) мог бы утверждать: “L’epigramme est plus qu’un bon mot”, но это никогда не вводило его в искушение добиться желаемого результата путем дополнительных уточнений; «…острота ума, – писал он, – обширных изъяснений не терпит» (Р. э., 638). Как бы доказывая это, поэт вслед за французами блестяще обыгрывает предельно краткую антитезу:
Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог.
Конечно, голова в почтенье меньше ног (Р. э., 82).
Кроме противопоставления в первом и втором стихах, здесь есть еще одно, читаемое по вертикали: танцовщик – голова, профессор – ноги. Благодаря этим парадигматическим связям текст приобретает большую смысловую плотность, целостность, эстетическую завершенность. Тут нельзя не прислушаться к мнению исследователя, что именно для
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
 Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин
Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин