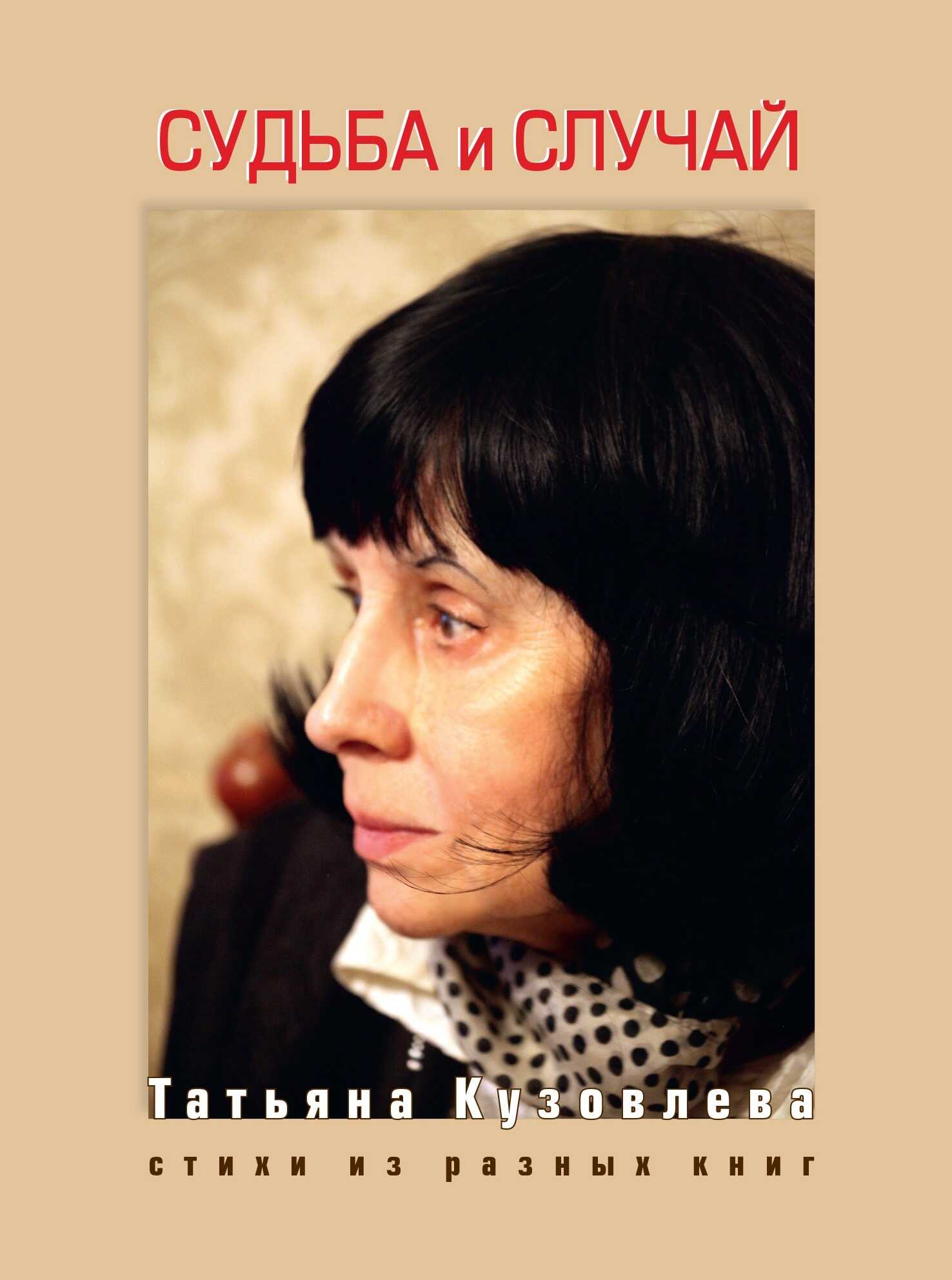Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова
Книгу Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Проблема сохранения истории и памяти встает особенно остро не в тот момент, когда свидетельства создаются, а когда появляется необходимость их услышать. Вопрос разделения истории и памяти обостряется, когда возникает фигура свидетеля – носителя опыта, о котором до этого умалчивали. Таким образом, проблема разделения двух понятий встает, когда возникает фигура свидетеля, что позволяет поставить вопрос о том, в какой момент рассказ и личный опыт начинает оказывать большее влияние, чем учебники или исторические исследования.
Фигура свидетеля заключает в себе живую память, которая не позволяет полностью дистанцироваться от произошедшего и рассматривать его как нечто давно случившееся и не имеющее на нас влияние[21]. Одновременно с этим рассказ от первого лица соединяет в себе еще и память в истории. Какие события помнит человек? Как он помнит? Как в его воспоминаниях отражены личные моменты и исторические события?
Таким образом, мы приходим к третьему аспекту определения памяти, которое предложил Ян Ассман, связанному с тем, что именно вспоминает человек, а что предает забвению. Особенно остро вопрос памяти и забвения встает в литературе, причем связанной не только с историей Второй мировой войны, но и с советской историей. В этом аспекте вспоминается повесть Юрия Трифонова «Дом на набережной»[22], опубликованная в 1976 году. Название повести отсылает к известному Дому правительства, расположенному напротив Московского Кремля. Действие происходит в Москве в трех временны́х отрезках: середина 1930‑х, вторая половина 1940‑х, начало 1970‑х годов. Герой повести Вадим Александрович Глебов после случайной встречи со старым другом вспоминает детство в Доме правительства, друзей, а затем студенческую жизнь и историю взаимоотношений с научным руководителем профессором Ганчуком.
Мы обращаемся к повести Трифонова потому, что в этом литературном произведении поздних 1970‑х годов уже разрабатывается проблема репрезентации прошлого и появляется фигура свидетеля, которая попадет в фокус чуть позже. Литературное описание истории, особенно истории периода репрессий, само по себе кажется явлением, которое требует упоминания. Однако повесть Трифонова важна нам и потому, что в ней соединяются и основанное на детских воспоминаниях писателя ощущение периода 1930‑х годов, скрытой опасности, которую чувствуют, но не могут уловить действующие лица, и выдуманная история главного героя. Перед нами своего рода «панорама памяти», которая проявляется в рассказе свидетеля – самого автора, в умолчаниях и намеренном забвении части истории, в почти физическом ощущении проступания этой истории вопреки всем умолчаниям. Эти приемы будут использовать современные художники, исследуя соединение разных способов рассказа о прошлом.
Трифонов буквально препарирует процесс забвения и памяти, раскрывая читателю, как главный герой, ученый и литературовед Вадим Глебов, намеренно корректирует свои воспоминания. Историю предательства своего научного руководителя Ганчука он выдает за череду случайностей и перекладывает ответственность на других действующих лиц. Одновременно с личной историей протагониста, который вспоминает о своем детстве в 1930‑е годы, героем повести становится Дом на набережной, чья история раскрывается через детское восприятие и непонимание, куда исчезают люди, почему дом окутан атмосферой страха и неизвестности. Воспоминания о друзьях детства, у каждого из которых были реальные прототипы, неразрывно связаны с историями «взрослых» – родителей, родственников, знакомых, которые исчезают по неизвестным причинам и о которых больше нельзя упоминать.
Соединение в «Доме на набережной» документальной точности в описании и передаче атмосферы времени и художественного вымысла создает сложно устроенную картину того, как работает память, существующая в намеках и умолчаниях, в намеренно «забытых» воспоминаниях и в вымышленных историях.
Пересечение в рамках произведения разных пластов истории, например детства, наполненного играми, первой влюбленностью и приключениями, и трагическими событиями, происходящими в стране, но при этом никому как будто не известными, позволяет нам на примере повести поставить вопрос о том, как в одной судьбе соотносится друг с другом память и история. Как можно говорить о собственном прошлом и одновременно отделить себя от него? В повести Трифонова этот вопрос стоит очень остро, потому что он раскрывается через личные воспоминания. Мы видим все происходящее глазами героя, его воспоминания являются нашим единственным источником, поэтому мы можем только догадываться, что он от нас скрывает, а что искажает. Взгляд Глебова особенный потому, что он одновременно участник и свидетель событий. Это позволяет навести резкость на историю, которая разворачивается на наших глазах.
Повесть «Дом на набережной» является важным примером осмысления вопроса истории и памяти в литературе – личной памяти, которая при этом может быть неполной, временами неясной и даже искаженной. Но мы все равно ищем возможность прикоснуться к этому опыту, потому что он кажется наиболее непосредственным и конкретным.
Как мы видим, вопрос определения памяти и истории напрямую связан с вопросом о формах сохранения прошлого, то есть о том, что нам остается от прошлого и что помогает нам помнить. Когда мы делаем попытку разделить историю и память, мы сталкиваемся с невозможностью провести четкую границу. Например, в какой момент, обращаясь к мемуарам, мы определяем, когда прошлое формируется историей, а когда памятью? Какая часть воспоминаний раскрывает проблему субъективного опыта, а какая обращена к истории? Мы постоянно сталкиваемся с противопоставлением большой истории и частной памяти, что отчетливо видно и на примере «Дома на набережной». И это противопоставление напрямую связано с теми формами репрезентации прошлого, которые выбирает художник или писатель. В мемуарах, которые зачастую пишутся как итог жизненного пути, трудно понять, где субъективное переживание автора, а где то, что он вспоминает как бы не от себя, а скорее транслируя некое общее представление. Дневники же показывают другое соотношение личного и общего в описании событий, но важно то, что эти границы постоянно меняются.
Память и история: направления художественного интереса
Среди множества вопросов, связанных с художественной репрезентацией памяти и истории, один из основных – вопрос о том, как именно осуществляется взгляд на историю из настоящего момента. То есть это вопрос о дистанции в разговорах о памяти. С него мы и начнем.
Одним из первых письменных свидетельств Холокоста стала книга Примо Леви «Человек ли это?»[23], где он описывает собственный арест нацистами (как члена Итальянского антифашистского комитета), а затем заключение в лагере Аушвиц. Книга была впервые опубликована небольшим тиражом в 1946 году (характерно, что крупное итальянское издательство отказалось ее печатать) и должного внимания не получила. Только в 1958 году выходит второй тираж, а затем книгу переводят на разные языки, и она наконец начинает активно обсуждаться. То есть осознание истории случается не сразу, а как бы постфактум – когда возникает необходимость
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Аропах15 январь 16:30
..это ауди тоже понравилось. Про наших чукчей знаю гораздо меньше, чем про индейцев. Интересно было слушать....
Силантьев Вадим – Сказ о крепости Таманской
Аропах15 январь 16:30
..это ауди тоже понравилось. Про наших чукчей знаю гораздо меньше, чем про индейцев. Интересно было слушать....
Силантьев Вадим – Сказ о крепости Таманской
-
 Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
-
 Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот