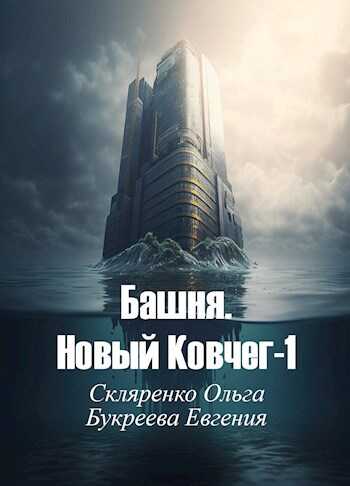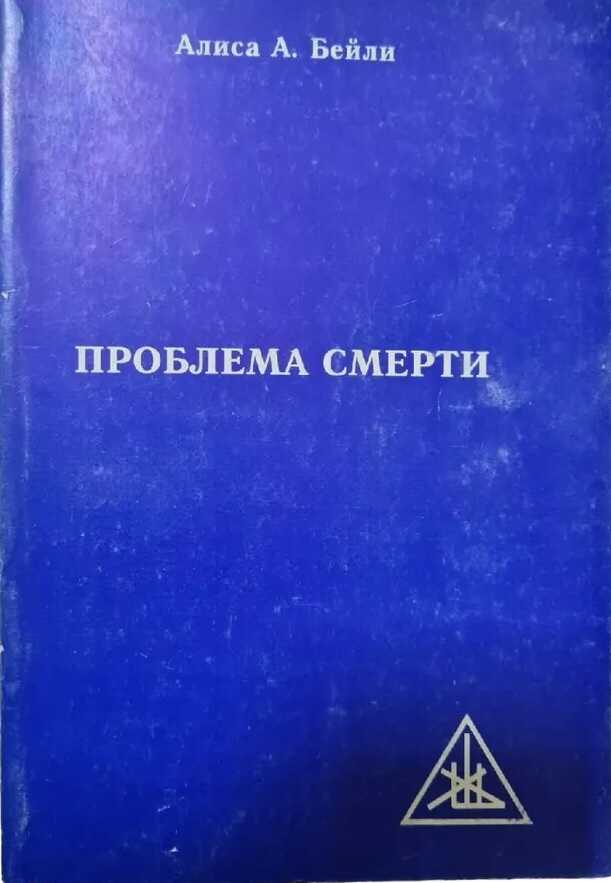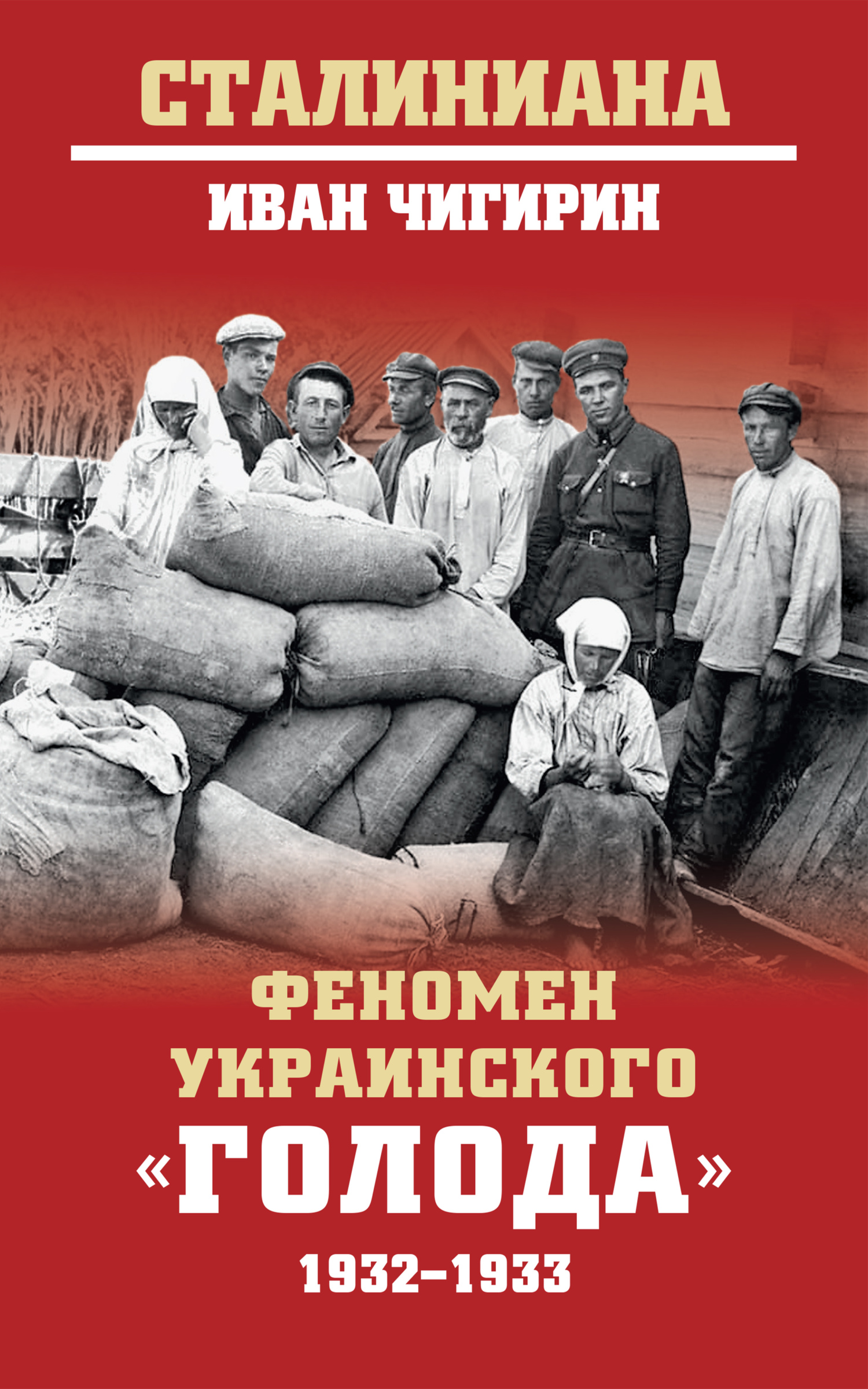Человек перед лицом смерти - Филипп Арьес
Книгу Человек перед лицом смерти - Филипп Арьес читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Книга жизни» (liber vitae), которая, по утверждению Арьеса, якобы лишь с XIII в. принимает характер «реестра человеческих деяний», фигурирует в этом качестве в дидактической церковной литературе с самого начала Средневековья. О книгах, в которые записаны добрые дела и прегрешения человека и которые соответственно приносят к его смертному одру ангелы и демоны, затевающие тяжбу из-за его души, можно прочитать уже в «Церковной истории народа англов» Бэды (начало VIII в.). Поступки индивида «не теряются (говоря словами Арьеса) в бескрайнем пространстве трансцендентного… в коллективной судьбе рода человеческого», они индивидуализированы. Если liber vitae выступает одновременно как история человека, как его биография, и вместе с тем как «бухгалтерский гроссбух», где записаны его деяния, то, оказывается, этот феномен вовсе незачем связывать с «новым рационализмом и с духом расчетливости делового человека». Ибо такого рода рационализм и коммерческий дух и расчетливость действительно появились в Европе в результате развития городов и торговли в XII–XIII вв. Но «книга жизни» здесь ни при чем.
Я остановился на этом вопросе потому, что здесь, если не ошибаюсь, единственный раз на протяжении своей обширной книги, Арьес пытается установить связь между ментальностью и материальной жизнью. Эту попытку нельзя признать удачной и убедительной, но вовсе не потому, что такие связи вообще отсутствовали, а в силу игнорирования исследователем массива источников, которые имеют самое прямое отношение к рассматриваемой им проблеме; их незнание оказывается роковым для построенной им картины смены эсхатологии.
Личное отношение к посмертному суду — органическое свойство христианства. Его персонализм выражался, в частности, в том, что индивид осознавал себя стоящим пред высшим Судией наедине со своими грехами и заслугами. Таковы, например, сцены, рисуемые в нравоучительных «примерах», коротких рассказах, которые широко использовались в проповеди. В одном из «примеров» человек лежит распростертый на одре смерти; его окружают близкие и друзья. И внезапно они становятся свидетелями невероятного, чудесного события. Умирающий еще с ними, и они слышат его слова. Но слова эти обращены не к ним, а ко Христу, потому что в тот же самый момент этот человек, оказывается, уже предстоит пред высшим Судией и отвечает на Его обвинения. Свидетели, естественно, не слышат вопросов Христа и произносимого им приговора: Страшный суд происходит в ином измерении. Но они слышат ответы грешника и из них могут заключить, что, несмотря на тяжесть обвинений, он в конце концов получает прощение. Умирающий находится как бы в обоих измерениях — еще среди живых и одновременно уже на Страшном суде.
В другом «примере» умирающий юрист пытается затянуть Страшный суд над собой с помощью внесения апелляции и просит своих коллег формально объявить о ней, но они медлят, и со словами «слишком поздно апеллировать, приговор уже произнесен, и я осужден» адвокат-крючкотвор умирает[15]. В такого рода «примерах» средневековую аудиторию не мог не потрясать своего рода «эффект присутствия»: Страшный суд близок как во времени (он происходит над душой умирающего), так и «пространственно»; окружающие слышат ответы грешника Судие, и обвиняемый даже пытается вовлечь их в тяжбу.
Рассказы о посещениях потустороннего мира, «примеры», проповеди и жития святых — эти источники представляют исключительный интерес, потому что они были адресованы самым различным слоям населения, и в первую очередь необразованным и не посвященным в тонкости эзотерической теологии. Эти памятники несут на себе отпечаток «давления» широкой аудитории на авторов, которые не могли не примерять своего изложения к уровню понимания простолюдинов и неграмотных и не говорить с ними на понятном им языке образов и представлений. Такого рода произведения приоткрывают завесу над народным сознанием и присущей ему религиозностью.
«Великая драма покинула пространства потустороннего мира. Она приблизилась, она разыгрывалась теперь в комнате самого умирающего, у его смертного одра». Эти слова Арьеса были бы вполне справедливы, если б он не подчинил свою мысль эволюционистской схеме и увидел, что описанные явления были изначально заложены в христианстве. Ибо идея об индивидуальном суде над душой, творимом в момент кончины человека, не была каким-то поздним продуктом развития по пути индивидуализма — эта мысль всегда присутствовала в сознании христиан.
Загадка средневековой ментальности состоит не в том, что ей была присуща тенденция индивидуализировать эсхатологию. Загадка в том, каким образом в одном сознании уживались обе эсхатологии, «большая» и «малая», казалось бы исключающие одна другую. Эту загадку можно разрешить только при условии, что историк перестанет страшиться логических противоречий и примет тот факт, что средневековое сознание — не столько в своих рафинированных схоластических выражениях, сколько на уровне расхожей, обыденной ментальности — этих противоречий не избегало и не боялось, более того, по-видимому, не замечало противоречия: Страшный суд в конце истории — и суд немедленно по смерти индивида; суд над родом человеческим — и суд над отдельным человеком; ад и рай как места, уготованные соответственно избранникам и осужденным в неопределенном будущем, — и ад и рай, уже функционирующие ныне. Ментальность средневековых людей, проецируемая на экран смерти, не соответствует эволюционистской схеме Арьеса.
В этой же связи внушает сомнения и его мысль о том, что «смерть твоя», то есть смерть другого, ближнего, воспринимаемая как личное несчастье, явилась своего рода революцией в области чувств, происшедшей в начале Нового времени. Несомненно, с падением уровня смертности, которое наметилось в этот период, внезапная кончина ребенка или молодого человека в расцвете сил могла переживаться острее, чем в более ранние времена, характеризовавшиеся низкой средней продолжительностью жизни и чрезвычайно высокой детской смертностью. Однако «смерть твоя» была эмоциональным феноменом, известным и в эпохи неблагоприятных демографических конъюнктур.
Арьес охотно цитирует рыцарский роман, эпопею, но ведь в них душевное сокрушение, более того, глубочайшее жизненное потрясение, вызванное внезапной смертью героя или героини, — неотъемлемый элемент поэтической ткани. Достаточно вспомнить предание о Тристане и Изольде. Брюнхильда в песнях «Старшей Эдды» не хочет и не может пережить погибшего Сигурда. Нет основания ставить знак равенства между романтической любовью и любовью в средние века, но осознание смерти близкого, любимого существа как жизненной трагедии, а равно и сближение любви со смертью, о котором пишет Арьес, отнюдь не были открытием, сделанным впервые в Новое время.
Арьесу принадлежит большая заслуга в постановке действительно важной проблемы исторической психологии. Он показал, сколь широкое поприще для исследования открывает тема восприятия смерти и насколько может быть многообразен круг привлекаемых для этого исследования источников. Однако сам он пользуется источниками весьма произвольно, несистематично, не обращая внимания ни на время их возникновения, ни на их
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
-
 Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
-
 Яков О. (Самара)13 январь 08:41
Любая книга – это разговор автора с читателем. Разговор, который ведёт со своим читателем Александр Донских, всегда о главном, и...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских
Яков О. (Самара)13 январь 08:41
Любая книга – это разговор автора с читателем. Разговор, который ведёт со своим читателем Александр Донских, всегда о главном, и...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских