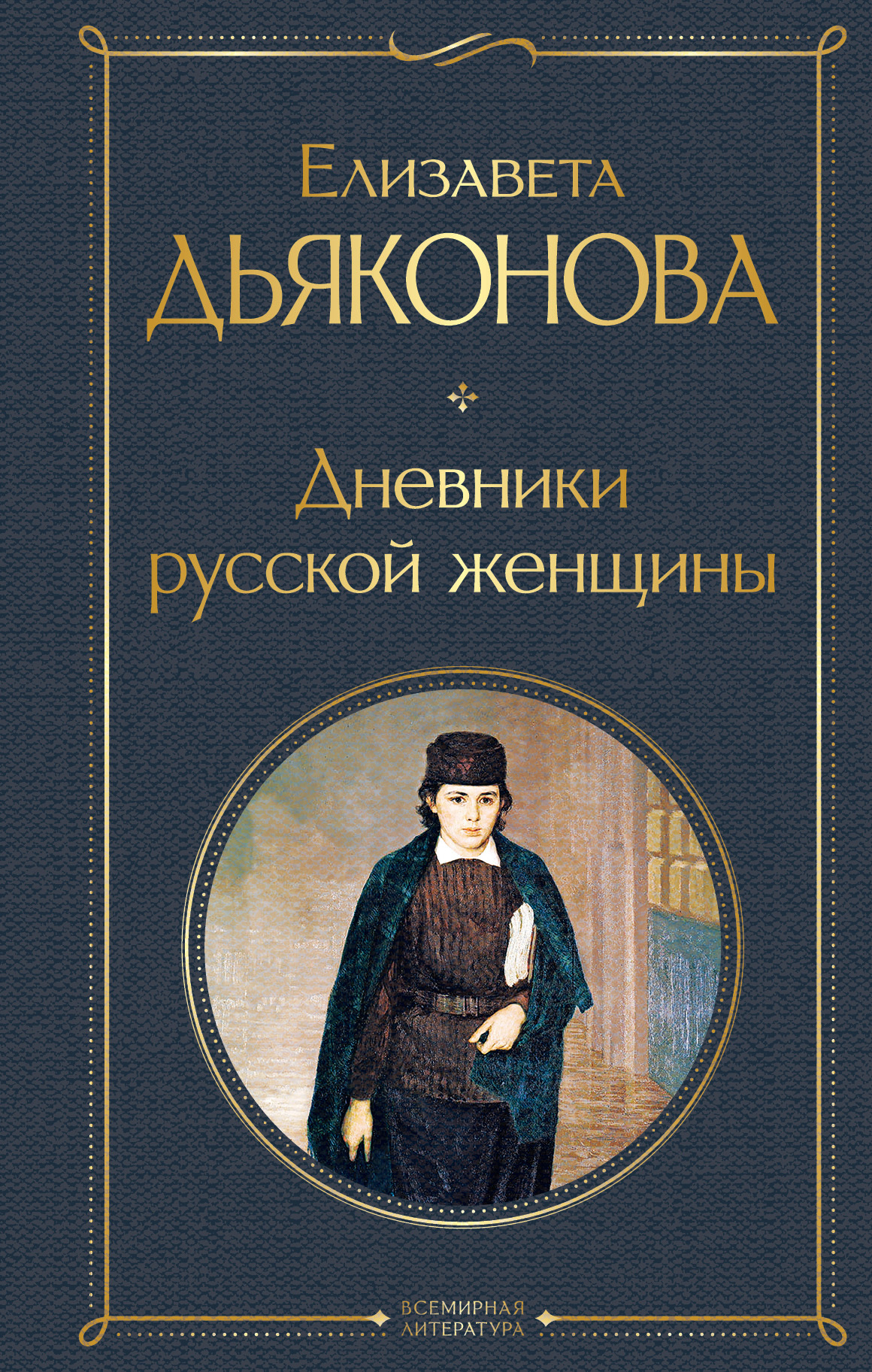Дневник русской женщины - Елизавета Александровна Дьяконова
Книгу Дневник русской женщины - Елизавета Александровна Дьяконова читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Былеев уезжал на другой день в Москву. Мы простились с ним у ворот нашего дома.
Вечером, лежа в постели и подумав о нашем разговоре, о том, как относиться к людям, – я невольно упрекнула себя, зачем не поблагодарила его за этот добрый совет.
15 августа, 1-й час ночи
Сегодня день моего совершеннолетия. Утром мама, крепко обняв меня, поздравила, заплакала и вдруг начала целовать без конца с какою-то страстною нежностью… Я стояла неподвижно, опустив руки… Я, которую до глубины души трогает всякая неожиданная ласка, – чувствовала, что внутри ничто не шевельнулось, что нет ответа на эти ласки. Я не сделала никакого движения, чтобы высвободиться из объятий мамы, и только время от времени, по какому-то чувству приличия, которое все же не позволяло мне не отвечать ничем на эти ласки, – машинально целовала ее руку… Уж теперь я не могу… полюбить ее вновь. Слишком много вынесено, слишком часто ко мне были жестоки; перед тою же матерью, которая, поддавшись минутному настроению, обнимала и целовала меня, – мне приходилось плакать мучительными
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Светлана26 июль 20:11
Очень понравилась история)) Необычная, интересная, с красивым описанием природы, замков и башен, Очень переживала за счастье...
Ледяной венец. Брак по принуждению - Ульяна Туманова
Гость Светлана26 июль 20:11
Очень понравилась история)) Необычная, интересная, с красивым описанием природы, замков и башен, Очень переживала за счастье...
Ледяной венец. Брак по принуждению - Ульяна Туманова
-
 Гость Диана26 июль 16:40
Автор большое спасибо за Ваше творчество, желаю дальнейших успехов. Книга затягивает, читаешь с удовольствием и легко. Мне очень...
Королевство серебряного пламени - Сара Маас
Гость Диана26 июль 16:40
Автор большое спасибо за Ваше творчество, желаю дальнейших успехов. Книга затягивает, читаешь с удовольствием и легко. Мне очень...
Королевство серебряного пламени - Сара Маас
-
 Римма26 июль 06:40
Почему героиня такая тупая...
Попаданка в невесту, или Как выжить в браке - Дина Динкевич
Римма26 июль 06:40
Почему героиня такая тупая...
Попаданка в невесту, или Как выжить в браке - Дина Динкевич