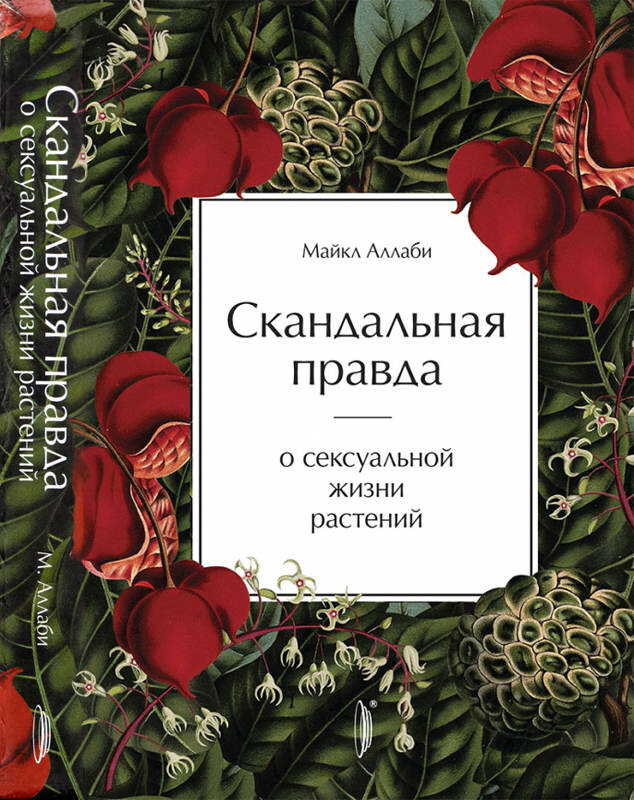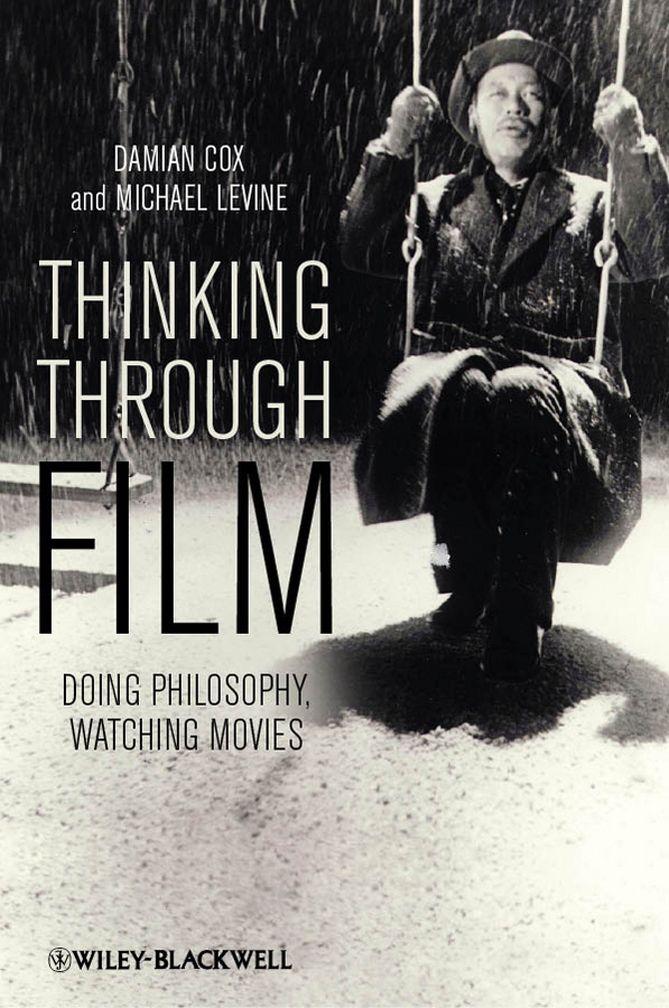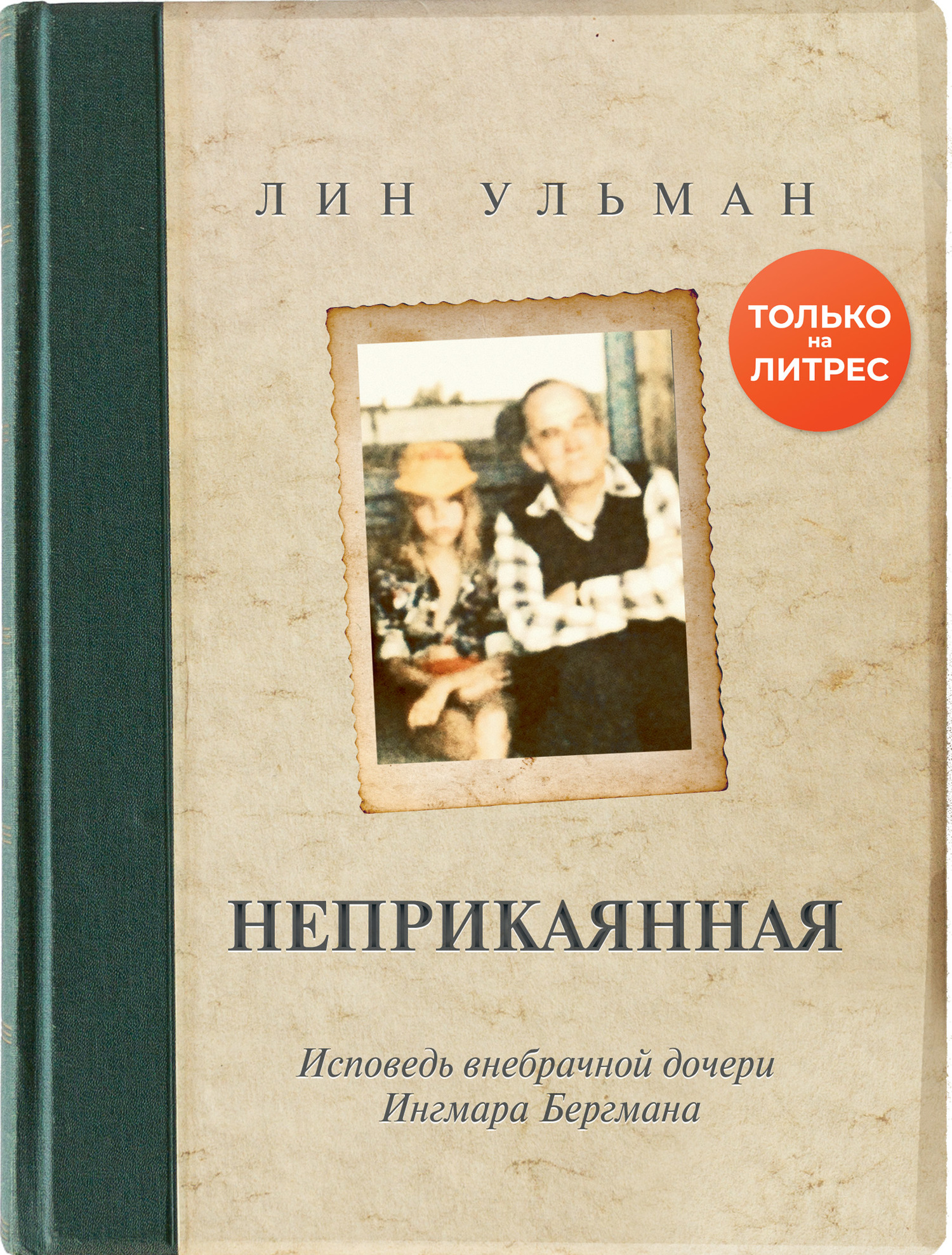Сцены сексуальной жизни. Психоанализ и семиотика театра и кино - Дмитрий Александрович Ольшанский
Книгу Сцены сексуальной жизни. Психоанализ и семиотика театра и кино - Дмитрий Александрович Ольшанский читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Искусство позволяет увидеть нечто запретное, как Вы сказали. Это сильный эмоциональный опыт. Тогда существуют ли сходства между катарсисом, вызванным произведением искусства, и глубокими психологическими открытиями, инсайтами, происходящими с человеком во время прохождения психоанализа?
— Аристотель определяет катарсис как эмоциональное очищение. Вживаясь в ситуацию на сцене, узнавая себя в героях, я переношу на них свои невысказанные проблемы, а когда конфликт разрешается на сцене, то и я выплескиваю свои эмоции: либо смеюсь, либо плачу, таким образом выпуская из себя наболевшее. Очищаюсь. Не будем забывать также, что слово «катарсис» в греческом языке имеет ещё и значение врачевания, выздоровления, чем воспользовался доктор Шарко, учитель Фройда, разработавший катарктический метод лечения, то есть отыгрывания психических травм.
Но в современном театре этот эффект не работает, потому что и субъект стал другим и сценическое действие не направлено только на «возвышение души». Все эксперименты, которые начались с Брехта и поддержались до театра абсурда — Ионеско, Беккет и т. д. — не ориентируются на идею эмоционального очищения. Искусство намного более сложная вещь, чем просто катарсис, отыгрывание или выплёскивание эмоций, развлекательная или врачебная услуга. Для этого вообще не требуется театр, религия делает это намного эффективнее. Литургия — это спектакль, который идёт с неизменным успехом уже больше двух тысяч лет.
Как мне кажется, театральные экспериментаторы двадцатого века делали акцент не на психологическом сопереживании, а на том, чтобы поставить его под вопрос, привнести в сценическое действие столь необходимую ему недосказанность, неопределённость и тревогу. Из этого исходит и Брехт, разделяя позиции героя и актера: в какие-то моменты то, что произносится со сцены принадлежит действующему лицу, а в какие-то моменты это речь самого актера. От этого и возникает «эффект очуждения», который порождает тревогу. Ты не понимаешь, кто говорит? а в равной мере и кто воспринимает? Быть может, впервые со времён Эврипида, проблематизирован оказывается сам зритель. И ты же не задаёшься дидактическими вопросами — что хотел сказать режиссер этим спектаклем? в чём здесь идея автора? — тебя терзает куда более острый вопрос: кто такой я? Если на сцене я вижу субъекта, лишённого идентичности, представленного несколькими инстанциями, несколькими дискурсами, источниками речи, тогда и воспринимающий — зритель — тоже распадается как целостный индивид. И он уже не только зритель, инстанция созерцания, удовольствия или назидания, но и критическая инстанция (как полагал Брехт) или инстанция священного безумия (как у Батайя), или инстанция перверсивного наслаждения (как у Арто), или инстанция отсутствия (как у Беккета), или всё сразу. Одним словом, зритель также лишается идентичности, целостности, само-центрированности, он оказывается выбит из колеи развлекательных услуг. Кто такой я? кто смотрит? кому принадлежит взгляд? — вот те вопросы, которые встречают зрителя в современном театре.
Да и за его пределами: кого я играю в обычной жизни? кто тот странный персонаж (или визуальный объект), которого я называю самим собой? что он — этот объект — для меня значит?… Таким образом, актер передает этот эффект очуждения зрителю, указывая на его собственную расщеплённость, отстранённость от своего собственного образа, от собственного «я», на месте которого разверзается пустота. Что не может не вселять тревогу. И это вряд ли можно назвать катарсисом. Это гораздо более глубокий психический приём, который рассчитан на современного нам человека. Говоря короче, эффект катарсиса в современном театре сменяется эффектом тревоги.
— Тогда на что ориентирован такой театр?
— Чувство тревоги и расщепления лечат совершенно в иной плоскости, нежели чувства и эмоции, тревога вообще не репрезентируется в каком-то образе и не выражается словом. Она создаёт напряжение, даёт нам нечто невыразимое, то самое «разделение души и тела», как говорит о катарсисе Платон в диалоге «Софист». То же расщепление, та же тревога, но организованная адекватными для современного человека средствами. Для зрителя, который выходит сегодня из театра, трудно ответить на вопрос, что он чувствует, потому что чувства вообще не находятся в фокусе интересов, трудно ответить, что он понял и чему научился, потому что и образовательные цели театра остались во временах критического реализма, понять, уразуметь и осмыслить. В фокусе театра находится нечто совсем иное, нечто, имеющее отношение к моему бессознательному, которого я не вижу, не воспринимаю, поэтому и не могу так легко схватить его, переманить на свою сторону, присвоить и выплакать, нечто, что ещё нуждается в поиске слов, представлений и образов. Трудном и не всегда удачном поиске. И эта трудность — и есть самое важное в работе зрителя.
Вернуть человеку всю бессмыслицу бытия, пустоту его существования, ввергнуть его в тревогу, заставить потерять себя — вот в чём задача театра (да и искусства вообще) — и если ты выходишь после спектакля с ощущением потери (потеряннного времени, например) — значит, сообщение дошло по назначению. Из театра вообще нельзя вынести ничего кроме пустоты. Никаким приростом смысла, получением удовольствия, расширением души, очищением или научением искусство не исчепрывается. Оно намного сложнее.
Безумно проблематично обращение к классике, в частности, после русского психологического театра поставить, например, «Три сестры» таким образом, чтобы это действительно трогало, попадало в сердечную трещину современного человека, это не обязательно должно быть визуально неожиданным и технически навороченным, но что-то тягостное, отвратительное и мерзкое, что происходит между героинями этой пьесы на сцене обязательно должно появиться. Для этого нужно внимательно читать текст, почти буквально, не пропускать никаких мелочей. А многие постановки именно этим и грешат: есть некая идеологема (если не сказать шаблон) того, как нужно ставить Чехова, поэтому и спектакли больше похожи на иллюстрации к предисловиям учебников по литературе за 9-й класс, просто перенесение на сцену критики начала прошлого века. Поэтому классика превращается в музейный экспонат (а жаль), её ставят не потому что это сложно и интересно и волнительно, а потому что это «наше всё», «последний оплот
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Римма26 июль 06:40
Почему героиня такая тупая...
Попаданка в невесту, или Как выжить в браке - Дина Динкевич
Римма26 июль 06:40
Почему героиня такая тупая...
Попаданка в невесту, или Как выжить в браке - Дина Динкевич
-
 Гость Елена24 июль 18:56
Вся серия очень понравилась. Читается очень легко, захватывает полностью . Рекомендую для чтения, есть о чем задуматься. Успеха...
Трактирщица 3. Паутина для Бизнес Леди - Дэлия Мор
Гость Елена24 июль 18:56
Вся серия очень понравилась. Читается очень легко, захватывает полностью . Рекомендую для чтения, есть о чем задуматься. Успеха...
Трактирщица 3. Паутина для Бизнес Леди - Дэлия Мор
-
 TatSvel219 июль 19:25
Незабываемая Феломена, очень интересный персонаж, прочитала с удовольствием! Автор-молодец!!!...
Пограничье - Надежда Храмушина
TatSvel219 июль 19:25
Незабываемая Феломена, очень интересный персонаж, прочитала с удовольствием! Автор-молодец!!!...
Пограничье - Надежда Храмушина