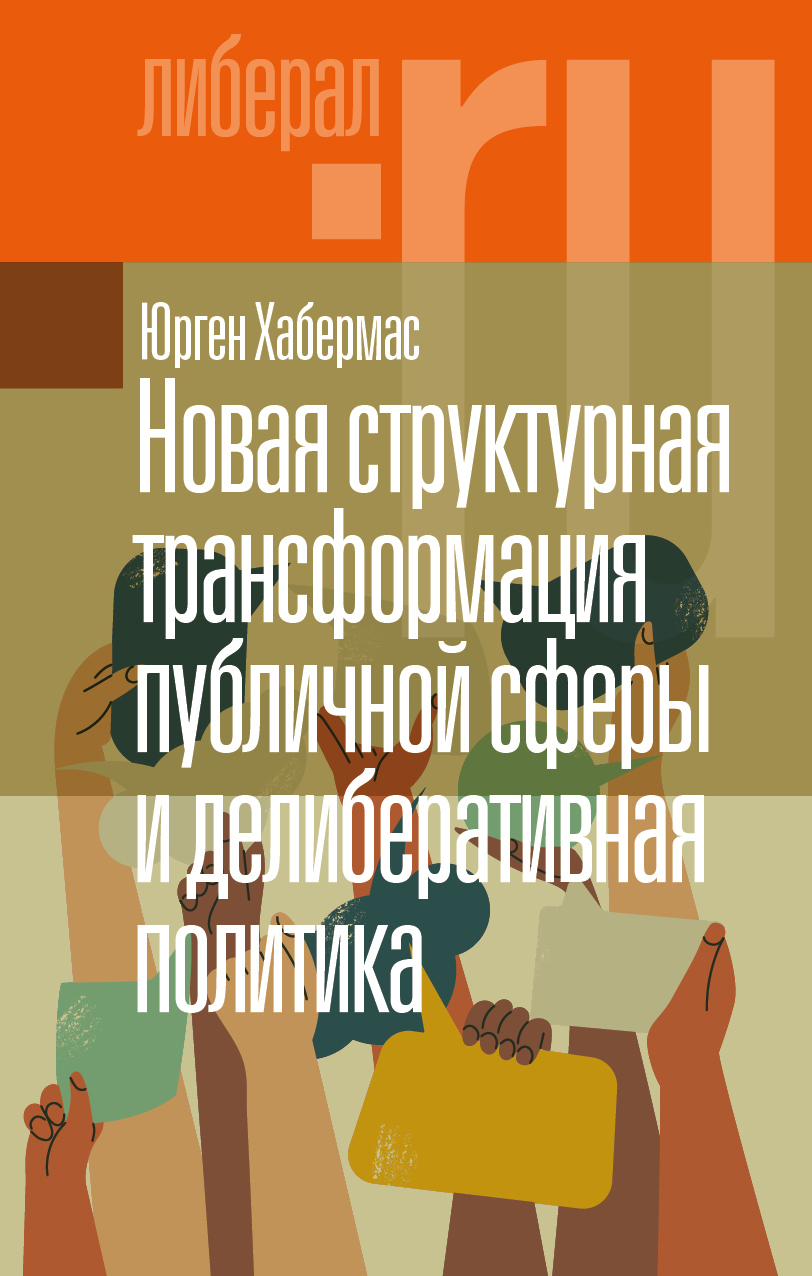«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас
Книгу «Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В Вашей общественной теории (судя в том числе и по последней Вашей книге) надежды на прогресс через обучение всегда идут рука об руку с опасениями за все достижения демократии и правовой государственности. Как быть с такой двойственностью чувств? Можно спросить иначе: почему Ваша концепция разума не увязывается с определенным идеалом жизненной формы?
Вы имеете в виду, что идея о коммуникативном разуме слишком сухая и потому не способна вывести из подобной двойственной ситуации? Я полагаю, что в повседневной практике в совершенно разных жизненных формах оперирует один и тот же разум, воплощающийся через пару элементарных способностей: первая – говорить «нет» заблуждениям и чрезмерным запросам; вторая – решать проблемы. Но когда речь заходит о вопросах нравственной справедливости, общий практический разум не инспирирует идеально продуманных и «емко» описанных жизненных форм. Конкретные жизненные формы развиваются всегда при локальных обстоятельствах и в определенной традиции. Основные права, как и права человека, определяют, со своей стороны, только организованную (в правовом смысле) совместную жизнь граждан внутри и между разнообразных политических общностей. Эти абстрактные права способствуют, разумеется, некоему развитию самого потенциала значений, зависящих от локальных обстоятельств и постоянно себя исчерпывающих вместе с переменой исторических условий. Все политические общности, вне зависимости от разницы в культурных традициях, должны действовать в соответствии с этими принципами, дабы граждане в рамках самоустановленной нормы имели возможность предоставлять друг другу равнораспределенные свободы и права – причем, по возможности, только те, что имеют одинаковую ценность для всякого отдельного человека.
Означает ли это, что принципам коммуникативного разума отвечают только демократические жизненные формы?
Что ж, в зависимости от того, как понимать сам термин «жизненная форма». Если рассматривать все многообразие культурных форм жизни с их этосами, более или менее принятыми в каждом отдельном коллективе, то коммуникативный разум и вправду требует, чтобы эти группы населения восприняли политическую форму демократического правового государства в рамках международного порядка, основанного на правах человека; но при этом само этическое многообразие пострадать не должно. Форма политической общности и базовые принципы соответствующей политической культуры не должны, соответственно, уравнивать этическое содержание конкретных жизненных форм во всем их разнообразии. Базовые правовые принципы, установленные в конституциях демократических правовых государств, в необходимой степени формальны, и потому они не только вполне сочетаются с жизненными формами самых разных западных государств – Швеции, допустим, Болгарии и Италии, – но еще и оказываются вполне применимыми для Китая, Индии или Сенегала. Не исключено, конечно же, что в процессе демократизации всех (в конечном счете!) стран – членов ООН – а это процесс очень желательный и в мультикультурном смысле очень гибкий – все отчетливее будет проявляться избирательность западного подхода к правам человека (а именно этот подход до сих пор господствует), который и сейчас уже, как мы видим, подвергается вполне обоснованной критике. В общем, коммуникативный разум сопутствует процессам политического волеобразования, но в политическом этосе взрослой культуры он не прослеживается – не в той, во всяком случае, мере, чтобы соответствовать ценностям либеральной политической культуры, на которую приходится ориентироваться при проведении в жизнь всякой демократической воли или общественного мнения.
И как эта абстрактная цель совмещается с обращением к нереализованному семантическому содержанию религий?
Строгое кантовское понятие о практическом разуме сложилось на Западе, как мне вроде бы удалось показать, в том числе и через реконструктивное освоение библейской традиции; нельзя, соответственно, исключать, что в свете новых, крайне смущающих вызовов – вспомним, допустим, все возрастающую техническую возможность вмешиваться в геном человека – эта традиция вновь сумеет подтолкнуть к построению убедительных этических доводов.
Что Вы имеете в виду?
Возьмем тот же пример, о котором я только что упомянул. Что означает случайность естественной базы унаследованных признаков (до сих пор считавшаяся самоочевидной) для пространства, внутри которого растущий человек «реализуется», то есть учится пользоваться своей этической свободой, чтобы жить той или иной жизнью, делаться той или иной личностью? Что изменится, если некто с людскими намерениями – не только в терапевтических целях, а для оптимизации отдельных свойств и способностей – запустит руку в случайную комбинацию родительских генов будущего человека, то есть, собственно, другого человека? Родители, конечно, могут согласиться на подобное вмешательство, если оно производится с превентивно-терапевтическим намерением: когда, допустим, для ребенка прогнозируются тяжелые и, в субъективном смысле, труднопереносимые патологии. Но в случае с оптимизацией подобное даже сложно себе представить. Взрослый генно-модифицированный человек может оказаться противником подобных манипуляций, сколь бы ни были они благонамеренными, и у его обвинений будет вполне конкретный адресат. В уже упомянутой речи на Премии мира я затрагивал такую идею: возможно, религиозное представление о сотворении свободного существа может составить собой образцовую модель в смысле «предназначения к свободе» и тем самым положит пределы для манипуляции с генным материалом для человеческого организма. Согласно подобному представлению, бог сотворил человека как свое alter ego, дабы в его конечной свободе – позволяющей в том числе и отпасть от бога – отразить свою собственную – бесконечную? – свободу.
6. Идейное взаимодействие с друзьями и коллегами
Вы очень методично фиксируете все, что определяющим образом на Вас повлияло (как в позитивном, так и в негативном смысле), – это, можно сказать, особенность Ваших трудов: речь идет не только о систематическом перечислении источников, но еще и о целом ряде сторонних заметок (посвящений, некрологов и портретов), при помощи которых Вы, опять же, настойчиво напоминаете об источниках влияния. Сам формат, сам стиль этого поджанра в корпусе Ваших сочинений задается, пожалуй, книгой «Философско-политические профили» – и до сих пор Вы остаетесь этому подходу верны. Почему Вас привлекает такой тип рефлексии?
Действительно, подобная практика вошла у меня в привычку. Но до сих пор я даже не предполагал, что она нуждается в объяснении. Во всяком случае, сам я о ней никогда не задумывался. Вообще, когда я принимаю участие в публичных дискуссиях, ведущихся через прессу, редакторы по тому или иному поводу часто просят меня рассказать что-нибудь о моих знаменитых коллегах и друзьях – или просто о каком-нибудь общественном деятеле. Но благодаря вашему вопросу я осознал, что эти очерки ad personam распадаются на две категории. Чаще всего это посвящения, составленные по конкретному случаю: в большинстве случаев – заметки либо ко дню рождения, либо ко дню памяти. В последние годы, кстати, я все больше пишу в печальной перспективе: старость окружает одиночеством, чаще и чаще писать приходится с точки зрения оставшегося в живых, одного из немногих. Главную роль в подготовке таких работ играют личные отношения с друзьями, коллегами и современниками. Почему за подобные очерки именно я берусь чаще других – сказать точно не могу. Полагаю, что у интеллектуала, выступающего в том числе и публично, есть своего род долг дружбы, некое товарищеское обязательство. Я, допустим, часто рассказываю не только о коллегах по профессии, но еще о тех писателях, юристах или теологах, которых я застал, – о друзьях или просто знакомых.
Но есть и совершенно другой случай: когда речь заходит о фигурах, воспринимаемых в первую очередь в разрезе интеллектуальной истории. В основном они принадлежат к поколению моих
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова