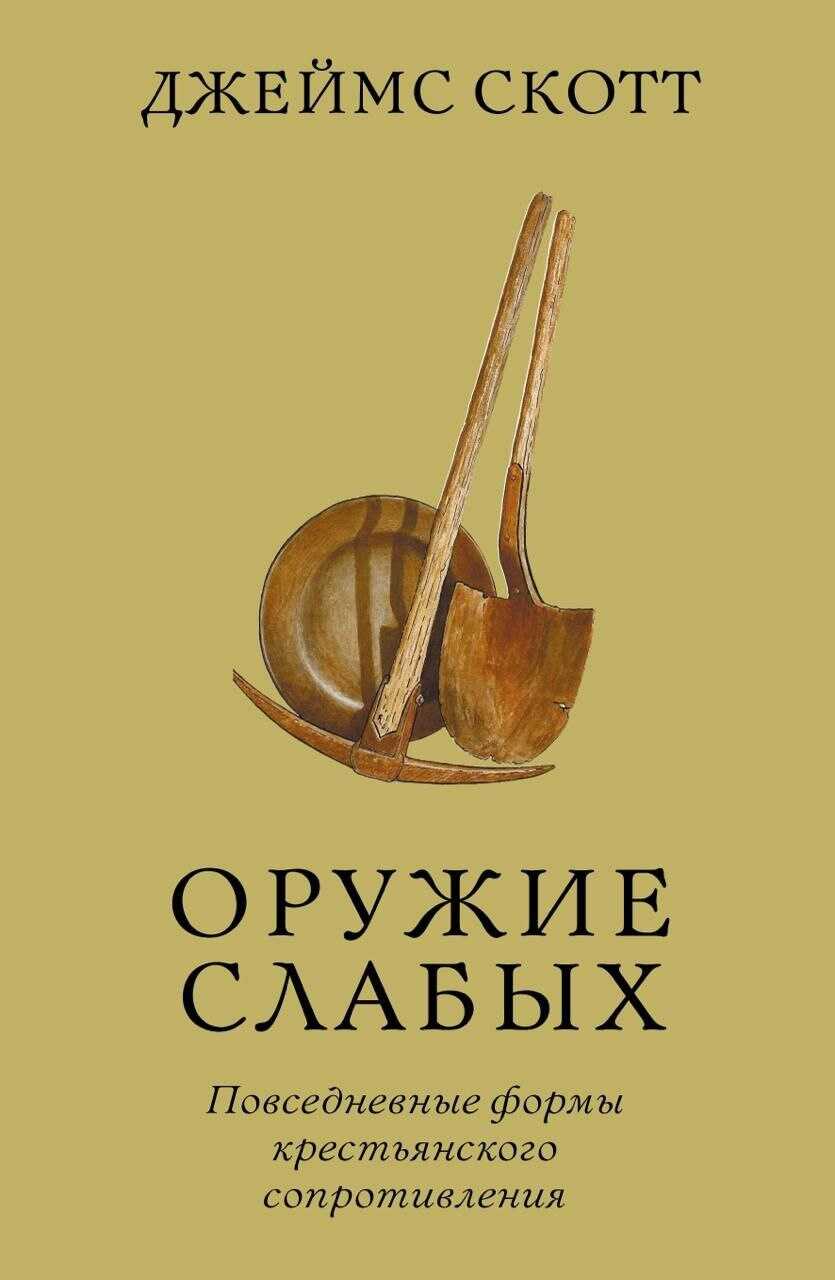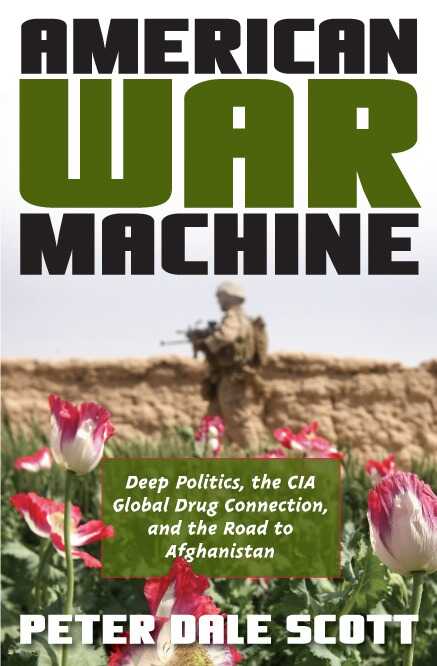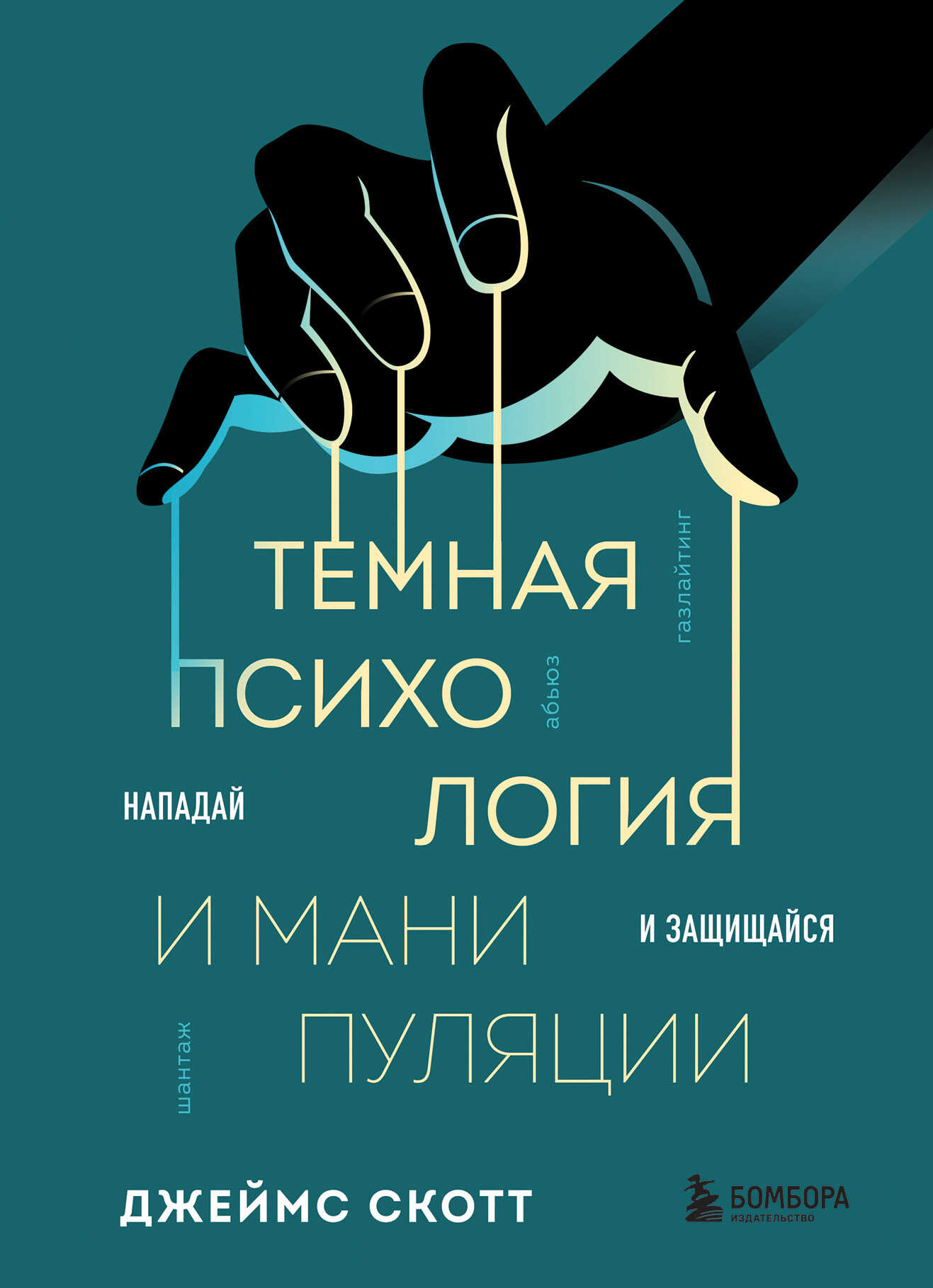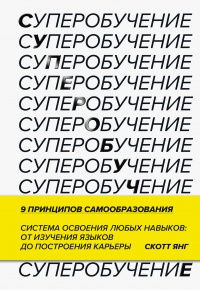Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления - Джеймс Кэмпбелл Скотт
Книгу Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления - Джеймс Кэмпбелл Скотт читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сохранение деревенских ворот, констатирует Скотт, определённо было скромной победой закрытой экономики, предполагающей, что первой обязанностью деревни является защита собственных источников оплаты труда и доходов. Ворота, добавляет он, по-прежнему выступали небольшим, но значимым препятствием для полностью «рационализированных» капиталистических производственных отношений. Однако столь архаичный инструмент проведения границ, конечно же, был неспособен сдержать натиск извне такой обезличенной и не знающей границ силы, как капитализм: уже в следующем сезоне расценки на вывоз риса из деревни не выросли, а во многих случаях были ниже, чем прежде.
* * *
Главный вопрос, на который пытается ответить Скотт в заключительной части книги – как и почему люди вообще подчиняются сложившемуся социальному порядку? – выходит далеко за пределы Малайзии и во многом совпадает с проблематикой книги Пьера Бурдьё «Практический смысл», ещё одного интеллектуального бестселлера, в оригинале вышедшего в 1980 году[8]. Две эти работы сближает то, что для ответа на принципиальный для западной социологии вопрос их авторы привлекают незападный полевой материал (в случае Бурдьё это были кабилы, живущие на севере Алжира). Однако есть и принципиальная разница: Скотт гораздо больше внимания уделяет взаимодействию между социальными классами, тогда как его французский коллега видел в проблеме социальных классов в том виде, как она сложилась в марксистской традиции, «исключительную территорию противостояния объективизма и субъективизма, ограничивающую исследование рядом ложных альтернатив»[9]. Напротив, для Скотта при всём его вполне критическом отношении к марксизму классовые конфликты – классовая борьба и даже классовая вой на – выступают фундаментальным фактом социального мира.
Другое дело, что в исторических реалиях подчинённые классы крайне редко могут одержать победу над классами господствующими – именно этот момент и определяет интерес к вопросу о том, как происходит социальное подчинение, и ответ на него выходит далеко за рамки «тупого принуждения экономических отношений», о котором писал Маркс. Поэтому ключевой фигурой, с которой заочно дискутирует Скотт в последней главе «Оружия слабых», оказывается крупнейший теоретик итальянского марксизма Антонио Грамши, запустивший в интеллектуальный оборот понятие «гегемония» – идеологическое господство. Произошло это, так сказать, не от хорошей для ортодоксальных марксистов жизни: внимание Грамши и его продолжателей к идеологии и «надстройке», констатирует Скотт, вынужденно определялось явной долговечностью капитализма. Его материальным противоречиям, изображённым в «Капитале», так и не удалось произвести социалистическую революцию в индустриализированных демократических странах – следовательно, требовались более тонкие инструменты анализа. Однако в итоге Скотт фактически дезавуирует Грамши: проанализировав классовые отношения на совершенно локальном материале, он приходит к вполне глобальному выводу, что само понятие гегемонии нуждается в принципиальном пересмотре для подчинённых классов в целом. Именно здесь у сегодняшнего читателя «Оружия слабых» возникает преимущество временнóй дистанции, поскольку в ситуации глобальной смерти деревни попытка Скотта отбросить само понятие гегемонии выглядит весьма сомнительным начинанием – достаточно лишь обратиться к обществам, где этот процесс уже состоялся, например, к сегодняшней России. Но для начала рассмотрим вкратце собственную аргументацию Скотта.
Если попытаться найти некий общий знаменатель в тех тезисах, которые Скотт выдвигает против понятия гегемонии и связанных с ней терминов типа «ложное сознание» и «мистификация», то напрашивается допущение, что он исходит из вполне гуманистического, просвещенческого представления о человеческой природе – точнее, о природе человеческого разума, способного правильно разобраться в любой ситуации и принять соответствующие решения. Например, Скотт вполне убедительно показывает, что малограмотные крестьяне из Седаки – это далеко не простодушная деревенщина, безропотно принимающая всё, что ей скажут сверху: «большинство подчинённых классов способны на основании своего повседневного материального опыта проникать внутрь господствующей идеологии и демистифицировать её». Кроме того, у подчинённых классов, отмечает Скотт, есть вполне конкретные представления об альтернативах существующему положению дел – в реалиях сельской местности Малайзии речь шла о земельной реформе, которую в той или иной степени поддерживало бедное крестьянство, даже если таких планов и близко не было у существующих политических партий. Подчинённые классы, по мнению Скотта, отнюдь не склонны воспринимать то, что им навязывают, как неизбежность, не говоря уже о том, чтобы видеть в этом некую справедливость. А в формулировке собственных целей они исповедуют куда более реалистичный подход, не требуя, в отличие от радикальной интеллигенции, чего-нибудь типа построения социализма или коммунизма. Поэтому им, настаивает Скотт, совершенно не требуется внешнее руководство в виде авангардной партии, которая поможет подчинённым классам подняться над «непоследовательным» и «фрагментарным», используя формулировки Грамши, осознанием своего положения и установит режим контргегемонии как шаг к будущей революции. Иными словами,
«нет никакого смысла в тщетных надеждах на то, что пролетариат или крестьянство каким-то образом оторвутся от своего упорного преследования приземлённых целей, которое обеспечит им сносные материальные условия и толику достоинства. Напротив, есть все основания видеть именно в этих целях и их неутомимом преследовании во что бы то ни стало важнейшую надежду на более гуманный социальный порядок».
В этих рассуждениях Скотт делает важную оговорку: рассуждения Грамши и его последователей относились преимущественно к зрелым капиталистическим обществам, тогда как ситуация, в которой оказалось крестьянство Третьего мира, больше напоминало положение рабочего класса времен раннего капитализма – здесь как раз уместно вспомнить об аналогиях с Англией времен Промышленной революции. Однако последующая смерть деревни – стремительная урбанизация в глобальном масштабе – явно спутала все карты автора «Оружия слабых», отправив вчерашних крестьян в объятья позднего постмодернистского капитализма с его постправдой, где «всё не так однозначно». Перебравшись в города, эти люди оказались в шатком положении субпролетариата – он же прекариат, которым с легкостью манипулирует власть, вполне осознанно реализующая гегемонистскую политику, в том числе при помощи вездесущей пропаганды, ненавязчиво подбрасывающей мысль о том, что альтернативы нет. А тем, кого не устраивает власть, в широком ассортименте предлагаются популисты, преследующие, по большому счету, единственную цель – занять место существующих элит под антиэлитными лозунгами.
Более того, идеи Грамши, изначально предназначенные для левых, прекрасно пришлись ко двору политикам правого толка – и оказались вполне эффективными, причем тем более эффективными, чем дальше левая альтернатива по ходу нынешнего столетия вырождалась в парад политик идентичности, упражнения в публичных покаяниях на тему деколонизации, расизма или сексизма и прочий активизм любых цветов и оттенков. Вот вполне характерное рассуждение, прозвучавшее в 2006 году во время обсуждения московской лекции Перри Андерсона – крупнейшего, наверное, из ныне живущих специалистов по проблематике гегемонии:
«Где-то между тридцатыми и семидесятыми годами термин „гегемония“ исчез из нашей политической культуры и больше не обсуждался.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Таня08 февраль 13:23
Так себе ,ни интриги,Франциски Вудворд намного интересней ни сюжета, у Франциски Вундфорд намного интересней...
Это моя территория - Екатерина Васина
Гость Таня08 февраль 13:23
Так себе ,ни интриги,Франциски Вудворд намного интересней ни сюжета, у Франциски Вундфорд намного интересней...
Это моя территория - Екатерина Васина
-
 Magda05 февраль 23:14
Беспомощный скучный сюжет, нелепое подростковое поведение героев. Одолеть смогла только половину книги. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
Magda05 февраль 23:14
Беспомощный скучный сюжет, нелепое подростковое поведение героев. Одолеть смогла только половину книги. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
-
 Гость Галина05 февраль 21:26
Очень понравилась книга. Прочла с интересом на одном дыхании!...
Исчезла, но не забыта - Филипп Марголин
Гость Галина05 февраль 21:26
Очень понравилась книга. Прочла с интересом на одном дыхании!...
Исчезла, но не забыта - Филипп Марголин