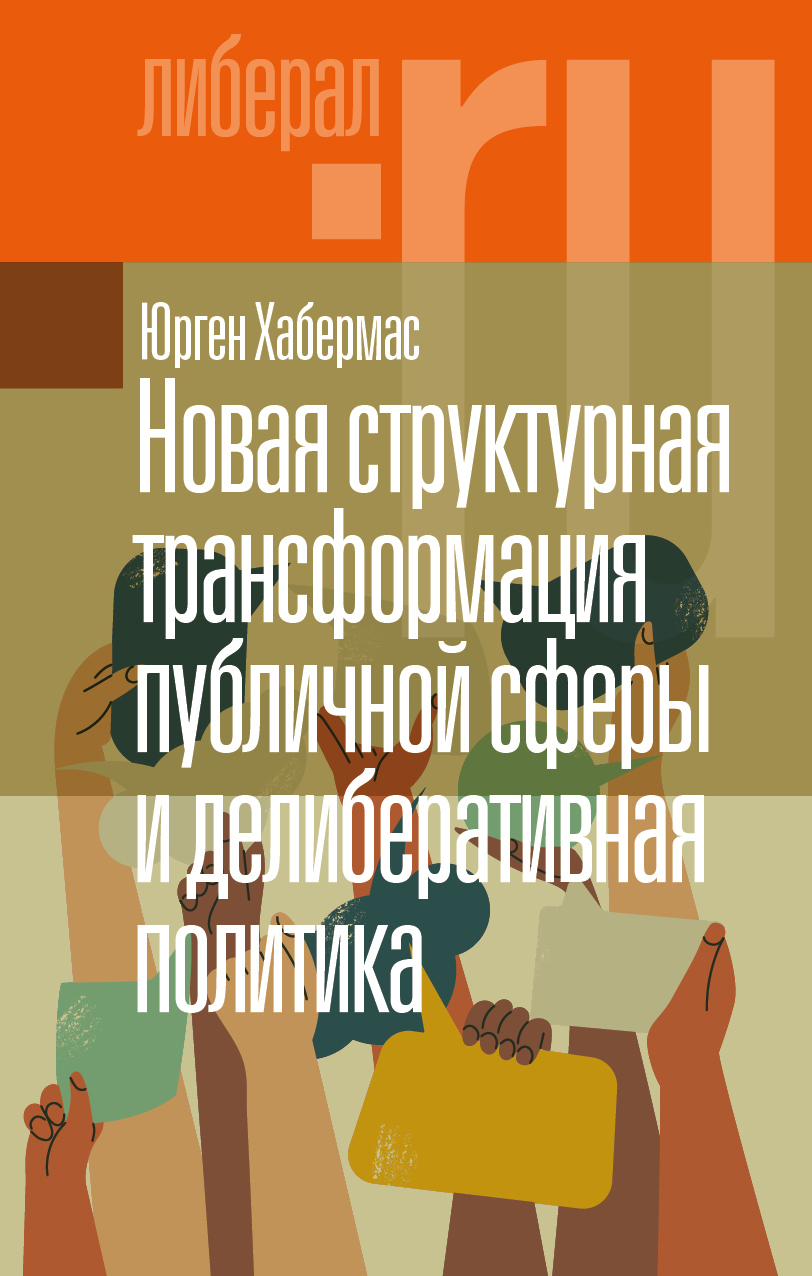«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас
Книгу «Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Какая интеллектуальная атмосфера царила тогда во Франкфуртском университете и, может быть, в самом городе?
Институт долгое время был научно-исследовательским, а первая дипломная программа (по социологии) открылась там уже при мне. Так что с университетской жизнью я не очень-то и соприкасался. Учебных занятий я уже не посещал, иногда только ассистировал Адорно на социологических семинарах. Насколько я могу судить, линии конфликта проходили там (не только на философском факультете, но и на социально-экономическом) все так же: по разлому между политическими биографиями «старожилов» и возвратившихся эмигрантов. Интересен, однако же, Ваш вопрос об интеллектуальной атмосфере в самом городе. Тогда во Франкфурте по-прежнему базировались американские войска. Город ярмарок стал узловой точкой для экономики и общественной жизни всей Республики: свою роль сыграли и тамошние банки, и аэропорт, и финансовое положение города, и просто его географическое расположение в самом центре южно-северной оси, проходившей через «старую» Федеративную Республику. Еще студентами мы ездили из Бонна во Франкфурт на театральные постановки: Гарри Буквиц отважился тогда в аденауэровской антикоммунистической Германии поставить на сцене произведения Брехта. И все равно, когда мы с Уте и нашим новорожденным сыном въезжали на перекрестке Фельдбергштрассе и Либигштрассе в чердачную квартиру площадью тридцать семь квадратных метров, мы никак не могли себе представить, что этот город, тогда еще отмеченный ужасными разрушениями, очень скоро сделается своего рода интеллектуальной столицей «старой» Федеративной Республики; впрочем, это не так удивительно, если учитывать, что во Франкфурте было множество крупных газет и издательств, что там не только в буквальном смысле от Вестенда недалеко до Паульскирхе, но и в общественном смысле соседствуют разные театральные среды, издательства, университет и газетные редакции – не говоря уж о книжной ярмарке, которая становилась центром международного внимания и особенно расцвела в шестидесятые и семидесятые годы. Я бы даже сказал, что в пятидесятые скорее дух университета подпитывался от духа города, а не наоборот. Александр Клюге, с которым мы познакомились дома у четы Адорно, тогда не был еще тем самым Александром Клюге. Да даже и сам Адорно лишь к тому времени сделался тем самым; а чуть позже его интеллектуальное присутствие в немалой степени прославило и сам город, который отныне стал ассоциироваться с Франкфуртской школой. Этим чувством я проникся в восьмидесятые и девяностые годы, во время своего третьего и последнего визита во Франкфурт.
Как Вы оцениваете сегодня свой начальный франкфуртский опыт, свои отношения с Адорно и с его вариантом критической теории? Есть ли в его философской системе какие-то базовые интенции, которые в те времена – что в 1956 году, когда Вы прибыли в Институт, что в 1964‑м, когда Вы вернулись во Франкфурт из Гейдельберга, – сочетались бы с Вашими собственными теоретическими установками?
Чтобы ответить на этот вопрос, я для начала напомню, что структуру, если угодно, «старой» критической социальной теории в убедительном виде отстаивал тогда вовсе не Хоркхаймер, а как раз Адорно, и только он. В те годы – между 1956‑м и 1969‑м – Адорно не был еще тем философом, каким он посмертно вошел в историю благодаря двум своим последним великим трудам[1]. Тогда его еще воспринимали просто как красноречивого интеллектуала: после своего возвращения в Германию он поначалу отметился своими работами по музыкальной и литературной теории, книгами о Кьеркегоре и Гуссерле[2], но в чуть более поздние времена Адорно выступал, главным образом, как специалист по эстетике и, благодаря его участию в радиопередачах, был широко известен в первую очередь как критик культуры. При этом по части философской теории он – окруженный работами Маркузе – был единственным подлинным наследником и убежденным представителем той традиции, которая официально ведет свою историю с 1937 года, когда в журнале «Zeitschrift für Sozialforschung» вышли великие очерки по критической теории. В общем, тогда Адорно не был еще автором «Негативной диалектики». Отсюда понятно, почему через много лет Вальтер Белих сказал мне: «Ведь Ваши работы куда ближе к Хоркхаймеру, которого Вы не любите, чем к Адорно, которого Вы так почитаете»; есть в этом, наверное, своя правда. Я действительно воспринял первоосновы этой классической социальной теории в «Структурной трансформации публичной сферы», – правда, в тогдашнем все еще авторитарном обществе демократические институты так и не укоренились, поэтому общее направление рассуждений уже сдвинулось, – а затем, в семидесятые, дополнительно разработал их в «Проблемах легитимации» (импульсом здесь послужили разговоры с Клаусом Оффе). Подоплека социальной теории до сих пор определяет мое мышление, несмотря даже на сдвиги в сторону коммуникативного действия; по той же причине в своей генеалогии постметафизической мысли я, опять же, усматриваю подоплеку социальной теории.
Больше всего на меня повлиял тот Адорно, каким он стал во второй половине пятидесятых, в годы моего ассистентства; и это, как я успел сказать, еще не автор «Негативной диалектики» – во всяком случае, я в те годы не распознал его в этом качестве. В зимний семестр 1956/57 года я, будучи ассистентом, вообще прослушал, если правильно помню, всего несколько часов одного из его лекционных курсов[3] – ведь нам же и работать было нужно! А в те годы, когда он писал «Негативную диалектику», я, будучи уже молодым коллегой, больше занят был собственными делами. Во второй половине пятидесятых я, естественно, уже отличал собственные идеи Адорно (в них чувствовалось большое влияние Беньямина) от классического варианта критической теории, и пусть даже идеи эти на тот момент почерпнуть можно было только из статей и докладов из начала тридцатых годов (таких, допустим, как «Идея естественной истории» или «Актуальность философии»), все-таки те возвратные мотивы, которые вновь появились у него в двух последних книгах, не были мне совершенно чужды. В пятидесятые, между прочим, на гегелевском семинаре Адорно я побывал буквально пару раз, да и то по поручению Гретель. Предметом моих исследований была социальная теория. Я в те времена считал себя в большей степени социологом и, как уже упоминалось, выполнял среди прочего роль ассистента на социологических семинарах. К «Негативной диалектике» я всерьез обратился лишь после смерти Адорно.
А обратившись к ней, что Вы выяснили?
Этот труд восходит к одной базовой идее: что в центральном для Гегеля понятии тотальности остается незамеченным одно существенное возражение, а именно – протест незаменимого и неповторимого Индивидуального. Адорно дает голос протестующей личности, этому протесту единичного, единственно конкретного сущего, которое у самого Гегеля может быть снято только ценой ассимиляции с неким особенным в конкретно-всеобщем. Эту идею я особенно подчеркивал еще в своем некрологе на смерть Адорно[4], но сам по тем же следам я двинулся, на свой лад, лишь недавно – в главе о Гегеле из моей последней книги[5]. Диалектическое развертывание конкретно-всеобщего через примирение всех противоречий между единичным и абстрактно-всеобщим черпает свою достоверность из общественной модели преодоления кризиса распадающейся нравственной тотальности. Только эта модель, развитая в применении к капиталистическим кризисам, придает разрешению противоречий между высказываниями (как логической операции) коннотацию примирения между противоборствующими сторонами; противоречие само по себе лишь вследствие этого коннотирует со страданием от чувства непримиримости. В снятии противоположности между особенным и абстрактно-всеобщим через конкретно-всеобщее Адорно, если я правильно его понимаю, распознает иллюзорный характер этого, по сути, вынужденного «примирения»: во вроде бы примирительном гегелевском понятии «тотально-целостного» проступает принудительное «тоталитарно-целостное». Негативная диалектика призвана разыскать в гегелевской процедуре «снятия» какой-то неснятый остаток искалеченной индивидуальности. Уязвимые личности, знающие себя неповторимыми и незаменимыми индивидами, с точки зрения снимающей целостности выступают
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова