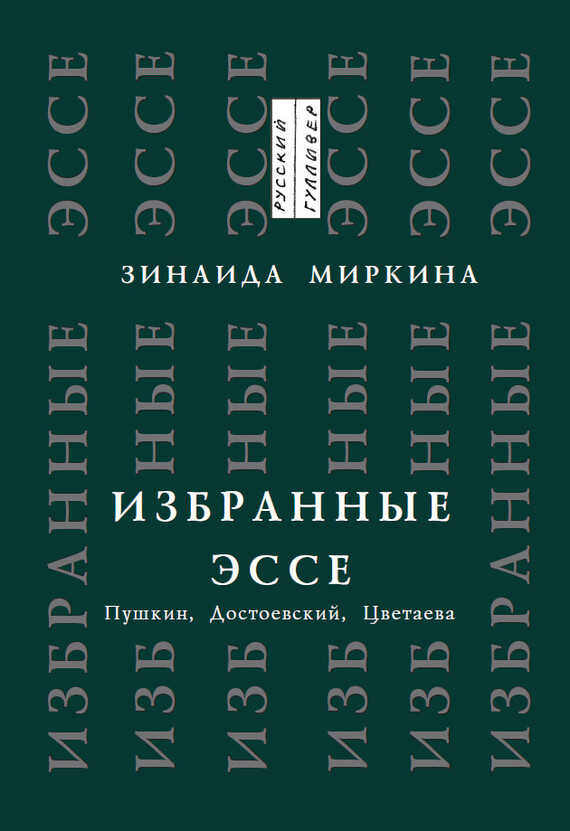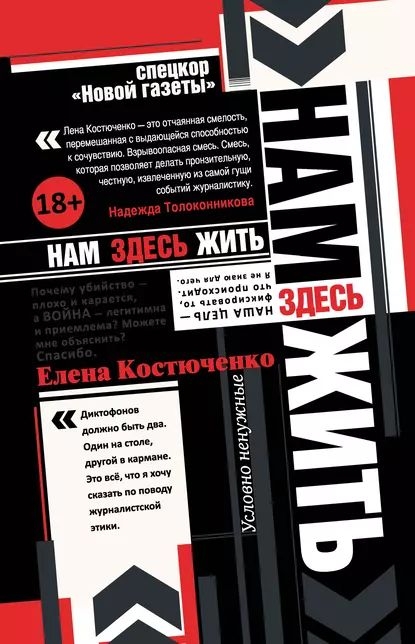Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик
Книгу Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Муж Страстен и Голгофа духа: «недуг» как признак добронравия
Сам факт того, что недуг нарушает норму, в свое время плотно увязывал его со злом, с Божьим гневом, с дурным характером, с постыдными наклонностями. Сегодня «недуг» зачастую по-прежнему оказывается частью нигилистического или готического модного образа (особенно психический «недуг»). Но в то же время боль и страдания, его сопровождающие, зачастую превращались, посредством все того же обнажения и преувеличения вторичных выгод, в «недуг», помогающий создать публичный образ смиренной добродетельности. В «Этимологиях» Исидора Севильского[8] описывается некто Герион, король Испании, о котором «говорят, будто он был рожден с тремя туловищами: на самом же деле речь шла о трех братьях, взаимное согласие которых было столь велико, что три их тела как бы сливались в одну душу». Трудно отыскать лучший пример «недуга», указующего на добродетель, но есть множество примеров более нам привычных: например, связанных с христианскими добродетелями, от дарованных Господом стигматов до самопричиненных ран, от которых страдали те, кто подлинно (или демонстративно) усмирял плоть. Когда зрелое Средневековье, а затем и Ренессанс сделали изображение страданий Христа, апостолов и святых одной из доминирующих составляющих визуальной культуры, страдание как таковое стало частью актуального, социально поощряемого облика, а безмятежное страдание – такое, какое мы часто видим у святых на полотнах XV–XVII веков, – поощрялось отдельно. В периоды особого религиозного подъема человеку светскому в определенных кругах положено было иметь если не стигматы, то сны о стигматах; садясь, любили чуть морщиться, чтобы продемонстрировать боль от утруждения коленопреклоненной молитвой. Естественно, не только страдания по вере часто оказывались (и оказываются) важными деталями актуального имиджа: полученные в бою легкие ранения, украшающие мужчину честно заработанные шрамы почти после каждой войны оказываются не просто модными, но и почти необходимыми признаками порядочности и патриотизма (естественно, фильтр вторичных выгод не пропускает в эту ситуацию подлинной инвалидности, тяжелых ранений, полученных психических травм).
Некоторой схожестью с этими честными боевыми ранами обладала предписываемая девушкам в определенные периоды модная обязанность слечь от горя при расставании с бойцом (впрочем, наравне с этим методом модного поведения существовал и другой – стойко переносить разлуку; немало примеров следования обеим стратегиям приводит, скажем, русская литература, повествующая о войне 1812 года). Девушкам вообще нередко полагалось являть свою добродетельность посредством «недугов». Недаром после смерти Вертера «жизнь Лотты была в опасности». Безусловно, у «недуга» как у составляющей актуального образа есть очень серьезная гендерная специфика. Здесь следует упомянуть пресловутые искусственные обмороки и естественные страдания, причиняемые узостью корсетов и тяжестью кринолинов; диагноз «истерия» и вечное «деликатное здоровье», которое женщина должна была демонстрировать в определенные исторические периоды (и в определенных социальных группах), – и многие другие составляющие проблематики женской телесности в общественном пространстве. Возможно, из всех аспектов темы «недуга» как составляющей образа именно этот аспект исследован лучше всего – благодаря работам феминисток второй и третьей волны. Важно, однако, указать на то, что и здесь речь шла в первую очередь не о демонстрации индивидуальности, а о демонстрации добродетели, как и у мужчин-монахов и мужчин-военных, чьи недуги и «недуги» часто делали их представителями социальной группы, пользующейся на тот момент особой популярностью. Зато романтическая любовь – как на пике ее модности, так и в разделяющих романтические ценности субкультурах других периодов – видела в «недуге» чуть ли не обязательный штамп для подтверждения подлинности и глубины любовного чувства и у женщин и у мужчин. Им предписывалось разное поведение в случае, если их сердце было разбито, но и тем и другим «недуг» настойчиво рекомендовался к использованию. И если женщина должна была впасть в горячку, заболеть чахоткой и, по возможности, умереть в беспамятстве, то мужчинам чаще предлагалось в конце концов выздороветь и жить дальше, но со следами страданий на челе.
«Чего смеетесь, глупые?» —
«Недуг» как групповой признак и групповой ресурс
«Чего смеетесь, глупые, – // Озлившись неожиданно, // Дворовый закричал. – // Я болен, а сказать ли вам, // О чем молюсь я господу, // Вставая и ложась? // Молюсь: „Оставь мне, господи, // Болезнь мою почетную, // По ней я дворянин!“ // Не вашей подлой хворостью, // Не хрипотой, не грыжею – // Болезнью благородною, // Какая только водится // У первых лиц в империи, // Я болен, мужичье!» Так вопил бывший человек графа Переметьева в главе «Счастливые» некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо», объясняя мужикам, что для приобретения подагры необходимо тридцать лет пить «шампанское, бургонское, токайское, венгерское…» – чем он и занимался, вылизывая за барными стойками недопитые рюмки. «Благородной болезнью», сделавшей бывшего дворового счастливым человеком, была подагра, о которой лорд Стэнхоп говорил: «Подагра является заболеванием джентльменов, а ревматизм – заболеванием кучеров». Сам факт наличия подагры был настолько сильным признаком принадлежности к группе, что на нее жаловались даже те, кто ею не страдал. В определенный период не иметь подагры было так же немодно, как быть девушкой крепкого здоровья.
Для дворового человека подагра – знак символической принадлежности к группе; вторичная выгода здесь в первую очередь самоощущение больного (хотя, заметим, он старается убедить мужиков в том, что особое уважение ему тоже не повредит). В других случаях спектр вторичных выгод, включающих страдающего в модную группу, может оказаться не только символическим, но и прагматическим: так, чахотка или, скажем, «нервы» делали представителя определенных кругов в определенные периоды частью модного сообщества обитателей курортов и ездоков на воды, фактически служа не только атрибутом модной идентичности, но
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Маргарита15 декабрь 11:20
Ну хотелось бы более внятного текста. Сотрудник ОБЭП не может оформить документы на пекарню в деревне?!?! Не может ответить...
Развод и запах свежего хлеба - Юлия Ильская
Гость Маргарита15 декабрь 11:20
Ну хотелось бы более внятного текста. Сотрудник ОБЭП не может оформить документы на пекарню в деревне?!?! Не может ответить...
Развод и запах свежего хлеба - Юлия Ильская
-
 машаМ13 декабрь 06:46
В целом неплохо хотя очень мало динамики.лишь конец романа был очень волнующим....
Оставь для меня последний танец - Мэри Хиггинс Кларк
машаМ13 декабрь 06:46
В целом неплохо хотя очень мало динамики.лишь конец романа был очень волнующим....
Оставь для меня последний танец - Мэри Хиггинс Кларк
-
 Гость Анна12 декабрь 20:33
Не советую, скучновато, стандартно...
История «не»мощной графини - Юлия Зимина
Гость Анна12 декабрь 20:33
Не советую, скучновато, стандартно...
История «не»мощной графини - Юлия Зимина