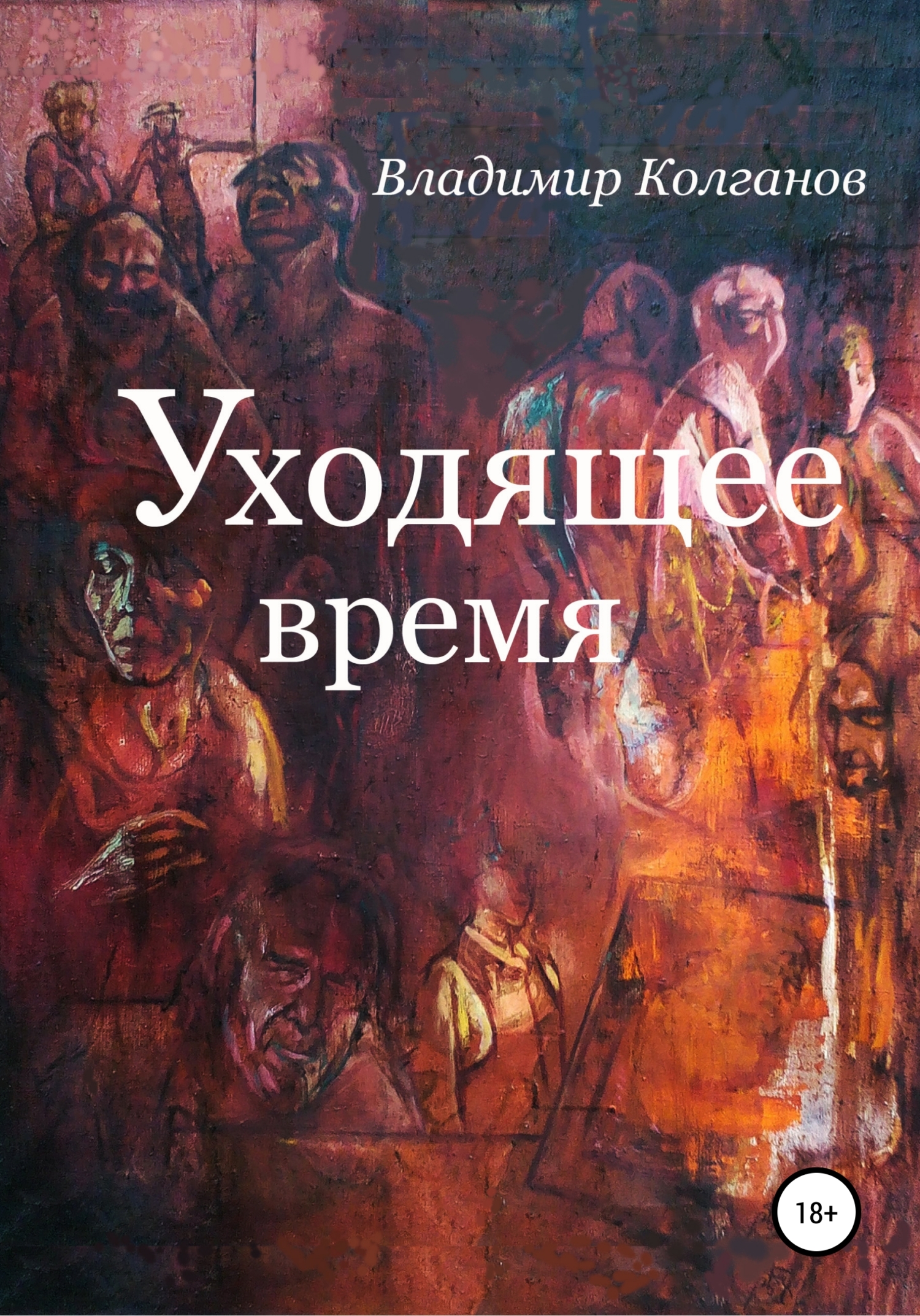На сто первой версте - Александр Александрович Аннин
Книгу На сто первой версте - Александр Александрович Аннин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Появилась как-то единственная белая кобылка с грязно-серыми пятнами, ее называли чубарой. И меня бабушка называла чубарым, а не чумазым, когда я, бывало, приду домой, извазюканный в лужах и – золой от костра изгвазданный.
– А ноги-то, ноги! – причитала бабушка, стаскивая с моих голых стоп разбухшие сандалии. – Собаки жрать не станут. Как мазепа!
Я не спрашивал, что значит «мазепа», для меня было ясно, что это измазанный человек, «мазюля», а бабушка к тому же стращала, что, мол, самых отъявленных мазеп, которые – оторви да брось, черти в аду коптят всем скопом, и потому они там ходят все в саже. Я легко мог представить, как смешно выглядит в аду измазанный сажей человек, ведь в холода, по утрам, сажей были отмечены бабушкины руки и даже лицо, она тоже становилась мазепой – после того, как, дождавшись, пока в печной утробе наконец-то погаснут «синенькие огоньки», закроет заслонку и вынесет во двор дымную головню, а потом выгребет золу в негодное ведро без ручки.[2]
Мне всегда было очень жалко бабушку, порой даже до злости жалко, до отчаянья. Бывало, вывалится из печного хайла большой, переливающийся глубоким, жарким светом уголек, так бабушка – хвать его пальцами, да и швырь обратно в топку. А ведь рядом совок железный, ну что бы не совком-то подхватить, а? Иной раз не рассчитает бабушка, попридержит уголь в руке чуть дольше, потом плюет на обожженные пальцы, приговаривает:
– Ох, горит как, о-хо-хо…
Я прямо-таки захожусь в недетской ярости:
– Зачем, бабушка? Зачем рукой?
Бабушка поднимает глаза к иконе Николая-угодника, быстро-быстро смаргивает слезы покорности, говорит свое надтреснутое: «Ладно, аýк!»
Золу бабушка высыпала на заснеженные грядки, и было у нас в огороде из-за этого некрасиво, становился он чубарым, как белая лошадь, покрытая серыми пятнами. Только вот лошадь была красивой, а наш огород посреди зимы – нет, совсем даже некрасивым.
Дядя Витя, конский сторож, был человеком важным для нас, пацанов с «Курлы-Мурлы», ведь иногда он подменял «закурившего», то есть свалившегося в лежачий запой возницу. И мог после долгого канюченья и нудных приставаний немного прокатить пару-тройку мальчишек на порожней телеге, когда выезжал из хозчасти на пивзавод или за флягами с молоком. Развозил потом пиво и молоко по магазинам. Кажется, раньше дядя Витя сам был возницей: кто-то слышал, как он, принявши самогонки, разговаривал об этом с лошадьми.
А если везли на телеге хлеб с хлебокомбината, то мы могли наблюдать, как за спиной возницы высится штабель деревянных лотков, и лошадь поминутно оглядывается, раздувает ноздри, вбирая нутром своим самый вкусный на свете запах – свежих батонов и булок.
Вообще, дядя Витя был нужным и полезным для всего нашего квартала: в хозчасти он мог разжиться опилками или даже мешком крупной, желтоватой лошадиной соли с черными проплешинами грязи. В магазине она все-таки стоила четыре копейки за кило, что, в общем, по карману, однако ж все соседи с удовольствием брали эту соль «за так» у дяди Вити. И спасибо ему говорили.
Самогонку тетя Рая выдавала мужичку своему строго по норме, и дядя Витя, посасывая погасшую папироску, «жалился» мужикам на скавредность жены, говорил беззлобно своим придушенным, зажеванным каким-то голосом:
– Вот ведь Райка скавредная! Налила, как украла!
Он всегда маялся от нехватки живительного продукта в организме и нет-нет да и ухитрялся напиться «впрок», то бишь в долг. И чтобы, не дай Бог, дядя Витя не начал тырить чего-нито в хозчасти, дабы расплатиться с благодетелем (а это уметь надо, тырить-то, а бесхитростный дядя Витя не умел), так вот, тетя Рая «на квит» отдавала его долги тем же самогоном. А самогон-то, как ни крути, все же денег стоит: сахар, дрожжи, то да се… Хоть и дешево, да стоит.
Эти сетования – «сахар, дрожжи, то да се, а еще тому дай, энтому» – я с малых лет привык слышать от тети Раи.
Лактионихе недобро и хмуро завидовали, но сами гнать самогон чурались: страмотно, да и посодют.
2
Явление поросенка всячески обсуждалось на нашей улице Карла Маркса, которую как-то само собой повелось называть «Курлы-Мурлы» («Где живешь?» – «На Курлы-Мурлы»). Хоть до центра Егорьевска и рукой подать, но улица уже считалась задней, по виду – так чуть ли не деревенской. Бревенчатые избы с торчащими на серой шиферной кровле, словно проклюнувшиеся подосиновики, печными трубами; чугунные колонки-бассейны по обочине, одна – прямо у бабушки напротив окон. И, чего уж там, люди жили тут почти по-деревенски, с неторопливым обсуждением погоды и народных примет («сходится – не сходится»), с голосистыми собаками на цепях гремучих, с вальяжными котами на боковых столбах прадедовских ворот.
Но, деревня деревней, а все же никто на Курлы-Мурлы, кроме тети Раи, не додумался бы взаправду завести скотину! Одни только разговоры – дескать, «а вот бы» да «хорошо бы. Птицу здесь не держали с тридцатых годов – как извели всех курей в войну, так по новой уже и не обзаводились. Заведешь, так враз прозовут куркулем. Один вдовый мужик по фамилии Хренов, что жил у церкви, завел было курей, да не угостил соседей ни яичками свеженькими, ни потрошками курьими. Не уважил. Куркуль, нечего и знаться с таким. И перестали не только что ходить к нему, но и здороваться даже, с праздниками поздравлять. Так и сидел в своей избе один-одинешенек, как таракан в щели, со своими курами, нос на улицу не казал, пока не помер. Видно, от жадности.
Еще один Хренов жил на нашей стороне, в конце квартала, это был совсем древний старик, и часто его так и называли – «старый хрен». И однажды надумал он разводить цветы в теплице, которую называл мудреным словом «оранжерея». Электричество туда провел, обогреватели поставил. К восьмому марта у «старого хрена» обильно всходили тюльпанчики… Дедок идти на базар со своими цветами боялся – вдруг привлекут, мало ли что? Времена-то вроде новые, да вот люди старые… И выгода у Хренова была не ахти какая – только если прямо на дом к нему приходили за цветами, из тех, кто знал про оранжерею, а знали про нее немногие. Остальное у него пропадало, и Хренова считали отъявленным, законченным скупердяем – дескать, ни себе ни людям.
Мы, пацаны, боялись и не любили этого тощего и медлительного старика, называли его промеж собой «колдуном».
Кроме этих однофамильцев (а может, и родственников?) Хреновых, один из которых, чуть помоложе, – слева напротив бабушки, а другой, старый «колдун», – справа, на нашей стороне квартала, через четыре дома и хозчасть, так вот, кроме них двоих, больше никто во всей Курлы-Мурлы не хотел для себя такой участи – чтоб тебя потом поминали как единоличника и куркуля. Да и Хреновы эти, кабы знали наперед, кем прослывут у языкатых соседей, не стали бы связываться с курями и тюльпанами. Жили бы как все. И теперь, вспомнив про них, отщепенцев, другие подумают-подумают, да и махнут рукой… Бог с ними, с цветами на продажу, с птицей домашней, кроликами – без них жили, без них и дальше проживем. Не надо нам такого счастья! Ведь никому потом ничего не объяснишь и не докажешь, только чужаком станешь в одночасье.
Или – отдавай соседям ненасытным труды свои. Всяк живущий в нашем квартале почитает себя вправе на угощение. Тут ведь как? Все одно выходит. Пожмешься, не поднесешь свеженьких яичек – себе дороже станет, отвернутся от тебя люди, от куркуля-единоличника. А если кого-то угостишь, а другого обнесешь – так этот другой на тебя такую обиду затаит, такую… У-ух! Все припомнит, как сто лет назад его прадед выручил твоего пра-пра-деда. И опять же получается, что обладатель домашней скотины ли, птицы, оранжереи – человек скупой и зловредный. Что так, что этак – куркуль, да самый что ни на есть натуральный, без подмеса.
Для моего детского слуха эти слова были сродни друг другу: держишь кур – значит, ты куркуль.
Слыхали у нас, что кто-то где-то «на задах» развел кроликов и даже мо́трий – так величали на Курлы-Мурлы нутрий. Дивились. А знал народ, что есть такой зверек – мотрия, потому что мотриевые
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Аропах15 январь 16:30
..это ауди тоже понравилось. Про наших чукчей знаю гораздо меньше, чем про индейцев. Интересно было слушать....
Силантьев Вадим – Сказ о крепости Таманской
Аропах15 январь 16:30
..это ауди тоже понравилось. Про наших чукчей знаю гораздо меньше, чем про индейцев. Интересно было слушать....
Силантьев Вадим – Сказ о крепости Таманской
-
 Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
-
 Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот