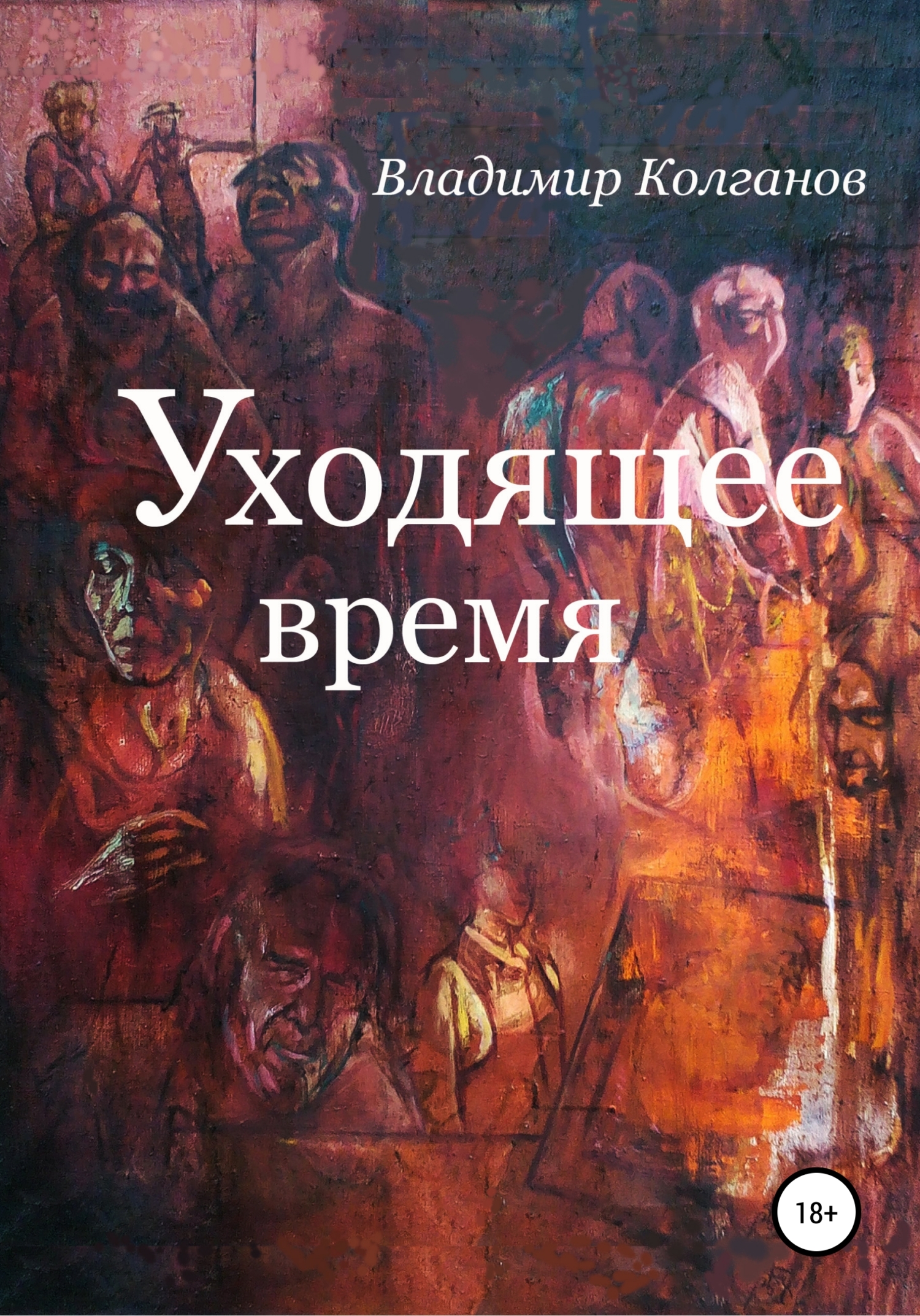На сто первой версте - Александр Александрович Аннин
Книгу На сто первой версте - Александр Александрович Аннин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Еще говорили про таких, что, дескать, захотел человек выделиться. Я не понимал тогда, что значит – выделиться? Бабушка растолковывала: «Раньше ведь как было? Все всё делали сообща. Жили в большой избе все вместе – и родители, и дети подросшие с мужьями ихними да женами, детки малые… Большущие семьи были, Сашуля, и все в одно время за стол садились, чинно. Не как сейчас, когда бутерброды на бегу съедают, каждый – когда захотел. Ну и, в общем, надоест, бывало, старшему или среднему сыну под начальством у старика отца ходить, он и говорит: хочу, мол, выделиться! Это значит – отдай мне, отец, мою часть земли, я с женой и детьми отдельный дом построю и там буду сам с усам, хозяином на всей своей воле! Вот что значит выделиться, Санёга. Что сейчас, что раньше – никогда не хотели молодые со стариками жить, старших слушаться. Вот и живем не по-лю́дски».
Деревенские из соседнего Заболотья нас не любили. Может, чуяли, что мы к ним относимся свысока? Наверно. Мы для них были вроде бы и свои, такие же – не в квартирах ведь живем, а в избах – чаще всего без газа и водопровода. А с другой стороны – жить в городе было, конечно же, проще и веселей. Ох, много в городе всякого! Не деревня с чахлым клубишком да скудным сельпо.
Пацаны из Заболотья время от времени целой ватагой совершали набеги на нашу и соседние, «задние» улицы. Вызывая мальчишек нашего квартала на драку, заболотские орали что есть мочи обидные стишки: «Городская вошь, куда ползешь? Под кровать, навоз хлебать!» Вместо «навоза», понятно, было употребляемо другое слово… И оглушительно щелкали пастушьими кнутами. Нашим мальчишкам выходить из домов и драться с деревенскими было страшно, и пацанов из Заболотья прогоняли мужики да бабы. Деревенские, цыкая сквозь щербатые зубы, длинно плевали на «асвальт поганый», нехотя и с ленцой убирались восвояси. Я еще застал то время, когда, помнится, говорили исконно правильно: не «восвояси», а «во своя вси», в свою весь, что по-старинному значит – в село, в деревню к себе.
Иной раз, правда, заболотским удавалось накостылять какому-нибудь зазевавшемуся, не успевшему юркнуть в свою калитку мальчугану с Курлы-Мурлы. Подвернулся им как-то Борька Дашковский, грузный широкомордый увалень, чуть постарше меня, живший в кирпичном беленом доме на краю квартала. Его деревенские побили сильно-сильно. Падая, Борька саданулся головой об угол фундамента и с тех пор стал умишком слаб, перевели его учиться в седьмую школу, которую все мы называли не иначе, как «шэдэ», школа дураков, – она была для умственно отсталых мальчиков и девочек, стояла на Курлы-Мурлы через квартал от нас. Слабоумных детей в Егорьевске было, видимо, очень много, раз уж целую школу большущую, двухэтажную, пришлось для них отвести. Говорили, что слабоумные рождаются из-за какой-то вредной вони на текстильном комбинате… Наши пацаны, которые ходили в нормальную десятую школу, завидовали сверстникам из седьмой: мало того что их не сильно спрашивали и совсем не гоняли по предметам, так еще вдобавок они вечно стояли на пятачке возле углового входа в здание школы и курили, и ничего им за это никто не делал. А нормальных мальчиков за курево прорабатывали.
…Было, конечно, еще одно, прямо скажем, немаловажное обстоятельство, выделявшее разницу между «задними» егорьевскими улицами и той же деревней Заболотье, что где-то далеко примыкала к избяным городским кварталам. И пожалуй, оно-то, это самое обстоятельство, было главным в то время: по-над улицей Карла Маркса высились церковные купола Александра Невского – действующей, чудом каким-то устоявшей и не разрушенной церкви, где взаправду шли Божьи службы, где «по-лю́дски» отпевали упокойников… И шли к нам в церковь со всей округи, хоть на праздник или просто помянуть родню, из враждебного Заболотья, из Корниловской, из Ефремовской, из Семеновской да Селиванихи, Бережков и Акатова, где помолиться за здравие и за упокой людям было просто негде. И это куда больше, чем заводская получка в «полторы тыщи старыми», добавляло чванливости обитателям изб на городских задах, осененных высоченной колокольней «Ксан-Невского».
Хотя, впрочем, была еще одна действующая церквушка на окраине, ближе к кладбищу, на Нечаевской улице, ее так и зовут по сей день – Нечаевская церковь, в честь Алексия, митрополита Московского, который во времена далекие, еще великокняжеские, сделал доброе дело для этих мест – прибрал здешний Гуслицкий край под руку Чудова кремлевского монастыря… Это очень много значило в те века – спасало «от глада и нашествия иноплеменных». Вот и назвали в честь Алексия-митрополита церквушку. Но туда, в Нечаевскую, почти никто не ходил, даже если жил поблизости. Мол, красивая церковь, благостная, чего тут говорить, да уж больно маленькая, не шибко громко там старухи-певчие поют, я лучше в большую пойду, в Александра Невского! Там весь город молится, я там знакомых повстречаю, а кого я встречу здесь, на самых-самых задах, на Нечаевской-то?
Неинтересно в церковь идти, если знаешь наперед, что никого не встретишь. И все шли ко всенощной субботними вечерами в нашу церковь, а по воскресеньям или на какой великий праздник – так утром, к семи да к девяти, на раннюю или позднюю обедню. Обычно отстаивали обе службы – и раннюю, и позднюю, это считалось за правило. А может, люди просто не понимали слов богослужения и не могли разобрать, когда кончается ранняя и начинается поздняя обедня, и выслушивали одни и те же песнопения да ектеньи по два раза кряду.
Здесь, в Александре Невском, и куличи с яйцами на Пасху святили, или березовые ветви на Троицу, или вербочку на Вербное, мед на Медовый Спас, яблоки – на Преображенье, орехи – на Спас Нерукотворный. Отсюда же и в последний путь своих упокойников провожали.
Иной раз я слышал от бабушки, когда она, по обычаю, говорила сама с собой: «Чтой-та я Плясуху (Пчелку, Мирониху) сегодня в церкви не видала. Заболела, может? Или померла?» Начинала переживать… И что же? Потом выяснялось, что все так и было: или слегла, или впрямь умерла. Потому что если на своих ногах, то уж в церкви будь всенепременно.
Нормальным считалось, если в церковь ходили и «молодые»: по бабушкиным меркам, таковыми считались все, кто еще не на пенсии. Конечно, «партейные» – дело другое, им в церковь не положено… Это была особая такая, коллективная вера в Бога, в обычаи и традиции. По отдельности-то каждый жил как безбожник, себе на уме, соблюдал свою выгоду, слушался жену да начальство… А вот вместе – тут совсем другое дело, тут, откуда ни возьмись, являлся перед честным народом мужик набожный, готовый морду набить за церковь православную или за хулу на священников да храм Божий.
Точно так же и в коммунизм верили разве что коллективно, артельно, дескать – само собой, построим мы этот самый коммунизм, обязательно построим когда-нибудь! «Партейные» люди все правильно говорят, а мы их слушаем. А дома у себя враз умнели все, выгадывали, как дожить до получки да что бы такое измыслить, чтобы жилось чуток полегче да посытнее.
Тогда, в семидесятом, о людях партейных еще говорили и думали как о каких-то особых, отмеченных некой печатью, в общем – избранных, не таких, как простой народ. «Партейный»… Это слово произносилось с разными интонациями, приличествующими случаю. Иногда – с уважением, иногда – с презрением или злобой, а чаще всего – как-то двусмысленно, с пониманием, что метит человек в начальство, в «президиум». Или – что, мол, его «выдвигают». «Партейные» в представлении тогдашних егорьевцев никоим образом не смешивались с обычными, нормальными людьми, как не смешивались староверы и кацапы.
И если беспартийная выходила за коммуниста, то это означало особый, непростой выбор дальнейшей судьбы, некую совершенно иную жизнь, отличную от обычной. Которая пойдет по другим, не нашим, порядкам, с иным укладом. И смотрели на такую гражданочку с особым «прищуром». Иной раз, бывало, заслышишь, как одна женщина стыдит другую: «У тебя ведь муж – партейный, как же ты так можешь!»
А случаев, когда беспартийный женился на коммунистке, не было вообще. Я не припомню, чтобы такое диво хоть раз обсуждалось у «бассейны». Это было все равно, как если какой-нибудь электрик с текстильной фабрики вдруг женится на начальнице своего
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Аропах15 январь 16:30
..это ауди тоже понравилось. Про наших чукчей знаю гораздо меньше, чем про индейцев. Интересно было слушать....
Силантьев Вадим – Сказ о крепости Таманской
Аропах15 январь 16:30
..это ауди тоже понравилось. Про наших чукчей знаю гораздо меньше, чем про индейцев. Интересно было слушать....
Силантьев Вадим – Сказ о крепости Таманской
-
 Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
-
 Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот