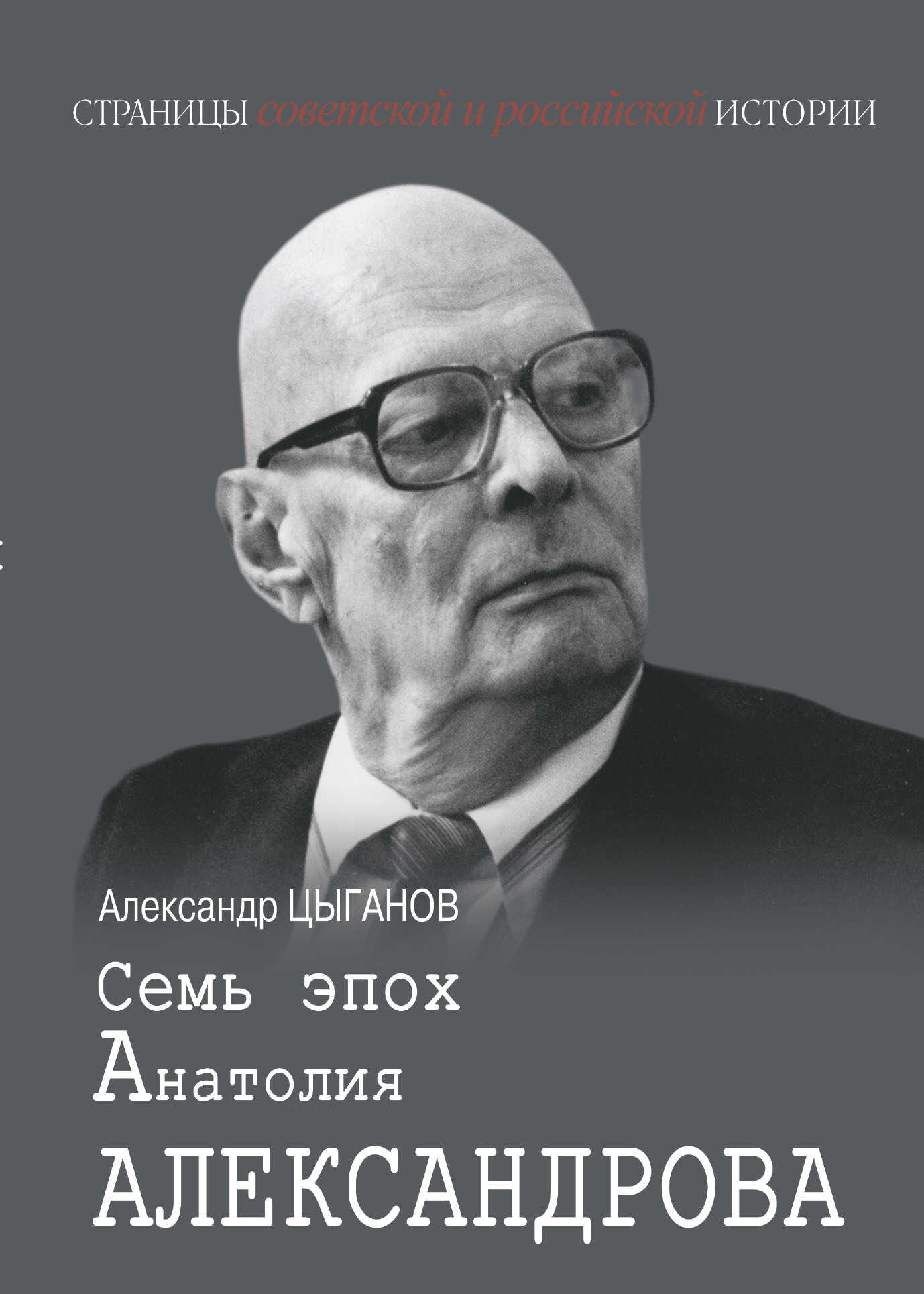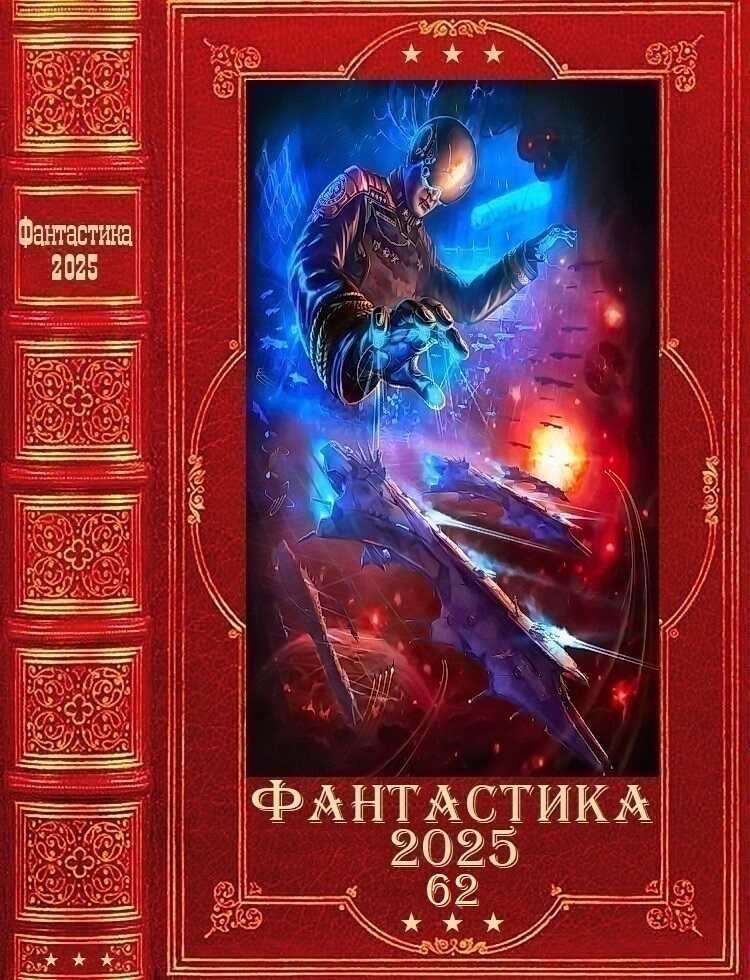Атомный век Игоря Курчатова - Александр Анатольевич Цыганов
Книгу Атомный век Игоря Курчатова - Александр Анатольевич Цыганов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Возвратившись в сентябре 1918 г. в Ленинград, я твердо решил навсегда связать свою судьбу со страной советов и внести свою долю в будущее строительство» [453, с. 181–182], – вспоминал он впоследствии.
Конечно, будучи уже профессиональным учёным, А.Ф. Иоффе не полез с винтовкой на баррикады. Но сделал максимум того, что мог, именно как учёный: возглавил физико-механический факультет в Петроградском политехе и добился вместе с профессором М.И. Немёновым декрета о создании Государственного рентгенологического и радиологического института. Многие учёные и историки науки считают сегодня физмех Политехнического института и Физтех тем «фундаментом, на котором выросло здание российской физики» [102].
С течением времени Государственный физико-технический рентгенологический институт (ГФТРИ) – Центральная физико-техническая лаборатория при ВСНХ – Государственный физико-технический институт (ГФТИ) при ВСНХ – Комбинат физико-технических институтов – Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ) развивался, менял свою структуру. Но в основе она оставалась той, что была избрана «отцами-основателями» в самом начале – шесть отделов с подчинёнными им подотделами и лабораториями.
Здание ЛФТИ.
[Из открытых источников]
Первый – Специальная лаборатория под управлением самого А.Ф. Иоффе – работал над вопросами механической и электрической прочности твёрдых тел.
Второй, физический отдел, которым руководил Н.Н. Семёнов, занимался темами электрическими, рентгенотехническими, молекулярными (в частности, изучением возможности получения идеальных монокристаллов), магнитными и химическими. Позднее на базе этого отдела был образован в 1931 году Институт химической физики (ИХФ).
Третий отдел (Н.Н. Давиденков) специализировался на изучении материалов.
Четвёртый – связи, руководитель А.А. Чернышёв. Чем там занимались, понятно из того, что из этого отдела выросло: Институт автоматики и телемеханики и Электрофизический институт.
Пятый – электромеханический отдел (Г.А. Люст).
Шестой – теплотехнический (М.В. Кирпичёв). Из него тоже вырос институт – Теплотехнический.
Наконец, седьмой – отдел технической акустики (Н.Н. Андреев). Это там развивал свои необычные инструменты и способности Лев Термен [72].
Конечно, в течение 1920‐х и 1930‐х годов отделы добавлялись и расформировывались, превращались в сектора и группы, и тот же И.В. Курчатов стал здесь же во главе отдела исследования ядра, но главное оставалось неизменным: всё это время ЛФТИ был главной научной школой страны.
И в этом качестве ЛФТИ почти все предвоенные годы если не замещал Академию наук, то играл роль не менее значимого научного центра.
Дело, правда, было не столько в особых качествах ЛФТИ, которые станут наглядными с середины 1930-х, сколько… в самой Академии.
Надо сказать, что, несмотря на всю массовую стихию и умоисступление смуты, к высшему руководству страною пришли люди хоть и индоктринированные иногда сверх меры, но разумные и распорядительные. И это новое руководство, надо отдать ему должное, о развитии науки заботилось как могло – понимало, что без науки как работающей части экономики в ХХ веке крупную страну не поднять и никакая мировая революция не поможет.
Правда, поддерживать науку приходилось с учётом необходимости направлять огромные ресурсы на решение острейших военных и политических задач. А также с учётом громадных людских и материальных потерь и практически полностью разрушенной экономики. То есть в условиях тотального дефицита финансов. Потому вливания поначалу были точечные. В основном – в продолжение исследований признанных академиков В.И. Вернадского, И.П. Павлова, А.Ф. Иоффе и им подобных. И их школ.
Наверняка это понимали и в унаследованной от Российской империи Академии наук. Вернее, в том не очень поддающемся определению образовании, чем она стала после революции.
В своё время академическое сообщество хоть и смотрело на бесталанного последнего царя критически, но и Октябрьскую революцию приняло весьма враждебно. Её позицию вполне однозначно выразил тогдашний непременный секретарь Академии наук С.Ф. Ольденбург, подводя итоги 1917 года по Академии: «Тёмные, невежественные массы поддались обманчивому соблазну легкомысленных и преступных обещаний, и Россия стала на край гибели» [456].
После чего академики замкнулись в некоем хрустальном замке, выстроив между собою и властью прозрачную, но не позволяющую вести диалог стену. Да и как его вести, если Академия не признавала законным органом власти большевистский Наркомпрос, а продолжала считать таковым министерство народного просвещения Временного правительства? На попытки же нового руководства страны подойти с просьбой «помочь советскому правительству в решении ряда государственных задач» отвечали с холодом осаждённого, но не покорённого стрельцами Ивана Грозного в своём замке остзейского барона: «Ответ Академии может быть дан по каждому отдельному вопросу, в зависимости от научной сущности вопроса… и от наличности тех сил, которыми она располагает» [457].
Правда, встречная реакция – разогнать эту академическую братию – не только не последовала, но даже не вылилась в логичный, казалось, для победившего пролетариата запрет жить Академии наук по её уставу от аж 1836 года.
Михаил Булгаков свой сюжет о противостоянии между профессором Преображенским и председателем домкома Швондером мог бы взять прямо из этой коллизии.
Тем более что Академию, как и профессора Преображенского, тоже защищали авторитеты из большевистской верхушки. Начиная с самого главного – В.И. Ленина. Вождь большевиков предельно прямо указал «не давать некоторым коммунистам-фанатикам съесть Академию». Высказывалось мнение, что тем самым он отдавал долг личного уважения Сергею Ольденбургу, которого знал с 1891 года и которому симпатизировал как товарищу своего повешенного за терроризм брата по студенческому Научно-литературному обществу профессора О.Ф. Миллера.
Во-вторых, сам Сергей Фёдорович Ольденбург являл собою тип классического российского либерала – интеллигента из дворян, в меру разделяющего «идеалы свободы», но одновременно и лоялиста, умеющего приспосабливаться к любым властям. Потому ни он, ни Академия наук под фактическим его руководством палку не перегибали и уже с конца 1918 года соглашались участвовать в некоторых научных и экономических программах советской власти в обмен на признание тою автономии и внутренней независимости Академии. Народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский и вовсе считал С.Ф. Ольденбурга «одним из самых крепких и самых нужных звеньев между советской властью и крупнейшей мировой и нашей интеллигенцией» [458, с. 202].
Ну и, наконец, в разгоне Академии не было никакой реальной необходимости: в ней всего-то состояло 45 академиков, из коих мировой значимости именами обладали парочка, максимум трое. Так, мелкий клуб по интересам, пусть они там во главе с Ольденбургом сплошь – бывшие кадеты. Репутационных потерь больше, нежели пользы. Не «Союз русского народа», членов которого расстреливали непременно и обязательно.
А главное, что в тех условиях тотального развала и нехватки самого необходимого учёным тоже нужно было как-то кормиться. Принципы хороши на сытый желудок, а когда и тебя, и твоих родных подтачивает голод, нужно быть совсем уж твердокаменным героем, чтобы умирать ради политических воззрений.
Так что когда советская власть, да ещё
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Евгения17 ноябрь 16:05
Читать интересно. Очень хороший перевод. ...
Знаки - Дэвид Бальдаччи
Гость Евгения17 ноябрь 16:05
Читать интересно. Очень хороший перевод. ...
Знаки - Дэвид Бальдаччи
-
 Юлианна16 ноябрь 23:06
Читаю эту книгу и хочется плакать. К сожалению, перевод сделан chatGPT или Google translator. Как иначе объяснить, что о докторе...
Тайна из тайн - Дэн Браун
Юлианна16 ноябрь 23:06
Читаю эту книгу и хочется плакать. К сожалению, перевод сделан chatGPT или Google translator. Как иначе объяснить, что о докторе...
Тайна из тайн - Дэн Браун
-
 Суржа16 ноябрь 18:25
Тыкнула, мыкнула- очередная безграмотная афторша. Нет в русском языке слова тыкнула, а есть слово ткнула. Учите русский язык и...
Развод. Просто уходи - Надежда Скай
Суржа16 ноябрь 18:25
Тыкнула, мыкнула- очередная безграмотная афторша. Нет в русском языке слова тыкнула, а есть слово ткнула. Учите русский язык и...
Развод. Просто уходи - Надежда Скай