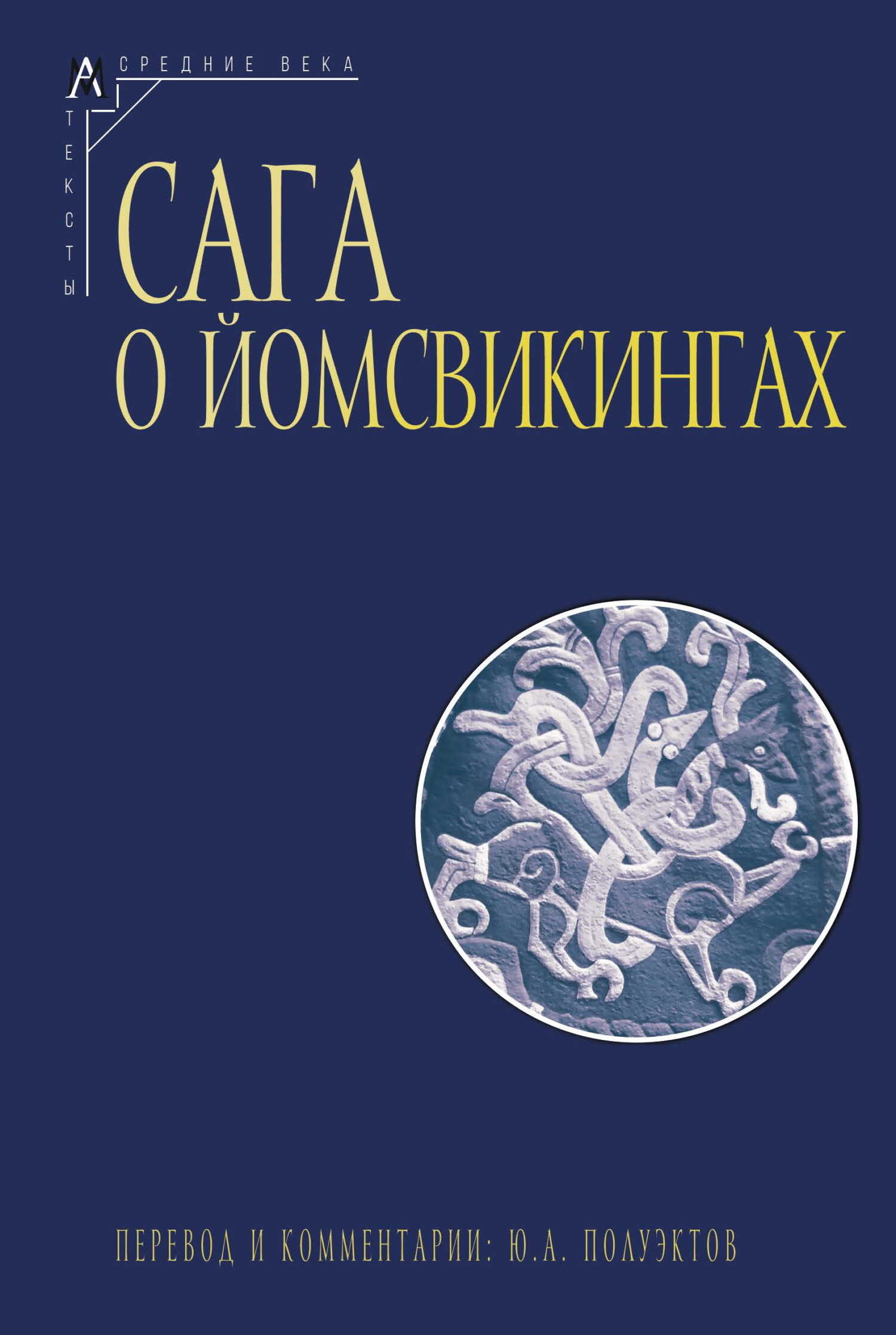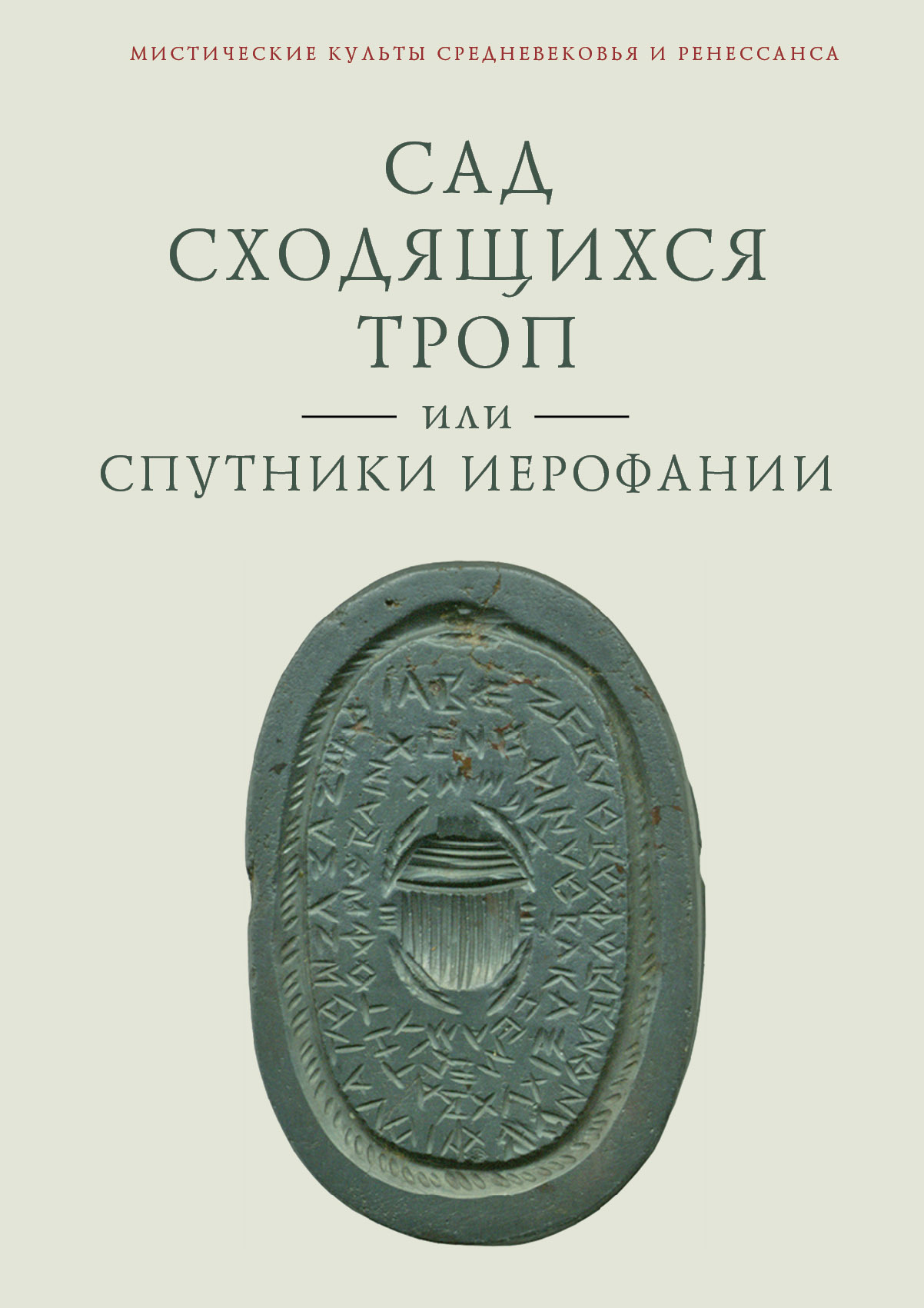Маргиналии средневекового искусства: эссе об истории и культуре - Майкл Камил
Книгу Маргиналии средневекового искусства: эссе об истории и культуре - Майкл Камил читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Примечательно, что термин «babewyn» стал обозначать всех таких составных существ, а не только обезьян. Исидор Севильский, авторитетный этимолог Средневековья, возводил происхождение слова «simius», «обезьяна», к «similitudo», «подобие», отмечая, что «обезьяна хочет подражать любому действию, которое она видит» [5]. Обезьяна – животное, которое жонглеры держали как забавную игрушку, а знать – как домашнего питомца, – стала обозначать сомнительный статус изображения как такового, ведь во французском языке слово «le singe» («обезьяна») является анаграммой «le signe» («знак»). Распространенность обезьян в маргинальном искусстве также обращает внимание на опасность мимесиса или иллюзии в созданном Богом порядке вещей.
Маргарита могла бы также назвать картинки на полях фатразиями, от слова «fatras», означающего мусор или хлам, – жанра юмористической поэзии, характерного для франко-фламандского региона, где был изготовлен и сам ее часослов. Хотя эти стихи следуют строго силлабической форме, они описывают вещи, которые могли бы появиться на самих его страницах:
D’un pet de suiron
Uns pez se fist pendre
Por l’i miex deffendre
Derier un luiton;
La s’en esmervilla on
Que tantost vint l’ame prendre
Latested’unporion…
Примерный смысл этого стиха такой: «На лапке клеща повесился пердун, чтобы лучше спрятаться за гоблином; после чего все были изумлены, ибо за его душой пришла голова тыквы» [6].
Фатразии, состоящие из невозможных взаимосвязей, несмотря на понятность каждой языковой единицы, мало чем отличаются от того, что мы видим на полях. Эти стихи, однако, совершенно самодостаточны, и придворное общество наслаждалось ими как развлечением, тогда как систематическая бессвязность маргинального искусства помещается внутри (а то и на фоне) другого дискурса – Слова Божия. Тем не менее культурные коды, ныне кажущиеся нам несовместимыми, возможно, не казались чем-то отдельным друг от друга в Средние века. В типичной неиллюстрированной рукописи (Париж, Национальная библиотека, 19152) можно найти назидательные истории, жития святых, басни, куртуазные стихи и два похабных фаблио под одним переплетом. Сочетание гибридов, смешивающих разные регистры и жанры, кажется, было как словесной, так и визуальной модой среди элитарной публики. Шалости вроде тех, что мы видим в «Часослове Маргариты», также можно найти по краям современных ему витражей Йоркского собора; они засвидетельствованы на литургических стихарях, сделанных для Вестминстерского аббатства, и вышиты на подушках, сделанных для личной часовни Изабеллы де Эно, фламандской супруги Эдуарда III [7]. Но это все еще не отвечает на вопрос, чего хотели столь возвышенные покровители от этого низменного мира, этого обезьяньего, бессвязного, пьяного дискурса, заполнявшего поля на краях их скрупулезно организованной жизни.
Мир по краям слова
Люди избавлялись от своих страхов, сваливая их на тех, кто обитал на окраинах известного мира, кто был в каком-то смысле меньшим; будь то троглодиты или пигмеи… окраины воспринимаются как зараженные зоны, где есть место всевозможным чудовищам и где рождается другой человек, отклоняющийся от своего прототипа, живущего в центре мира [8].
В Средние века границы известного мира были одновременно и пределами его репрезентации. На карте мира, нарисованной на странице английской Псалтири около 1260 года (илл. 2), чем дальше удаляешься от центра Иерусалима, тем более уродливыми и чуждыми становятся вещи. Из внешнего времени и пространства, с верхней части страницы, Бог управляет всем, в то время как два свернувшихся кольцами дракона предполагают пространство «подземного мира» внизу. Вокруг Африки, в правой нижней четверти этого крошечного полуторадюймового пространства, художнику удалось изобразить четырнадцать монструозных рас, типы которых восходят к Плинию и которые, как считалось, существуют «в воображаемых углах круглой земли» [9]. Здесь мы видим крошечных блеммий и кинокефалов (людей с глазами на груди и собакоголовых соответственно), великанов, пигмеев и многих других. Есть и сциапод вроде того, что, должно быть, проделал долгий путь, чтобы поиздеваться над волхвами на левом краю часослова Маргариты. В этом смысле иллюстраторы часто не изобретали монстров, но изображали тех существ, которые, как они вполне могли предположить, существовали на границах Божьего творения.
Илл. 2. Карта мира. Псалтирь. Британская библиотека, Лондон
С Богом в центре средневекового паноптикума, «всевидящим» и вездесущим, большинство моделей вселенной, общества и даже литературного стиля были круговыми и центростремительными. Безопасные символические пространства очага, деревни или города резко контрастировали с опасными территориями снаружи – лесами, пустынями и болотами. Каждый деревенский ребенок помнил пограничные ручьи, в которые его окунали, и деревья, об которые его били в Молебственные дни в рамках деревенского ритуала обхода границ, так что пространственные границы отмечались на его собственном теле. Неведомые царства не были далекими континентами, на которых бывали путешественники и паломники; они начинались сразу за холмом.
Однако люди также были очень чувствительны к беспорядку и отклонениям именно потому, что они были так озабочены иерархией, которая определяла их положение во вселенной. Такие схемы включали, помимо трех сословий общества – молящихся, воюющих и трудящихся, – свободных и несвободных, духовенство и мирян, горожан и сельских жителей и, конечно же, женщин и мужчин. Несмотря на отсутствие нашей преобладающей дихотомии общественного и частного, средневековая организация пространства была не
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт