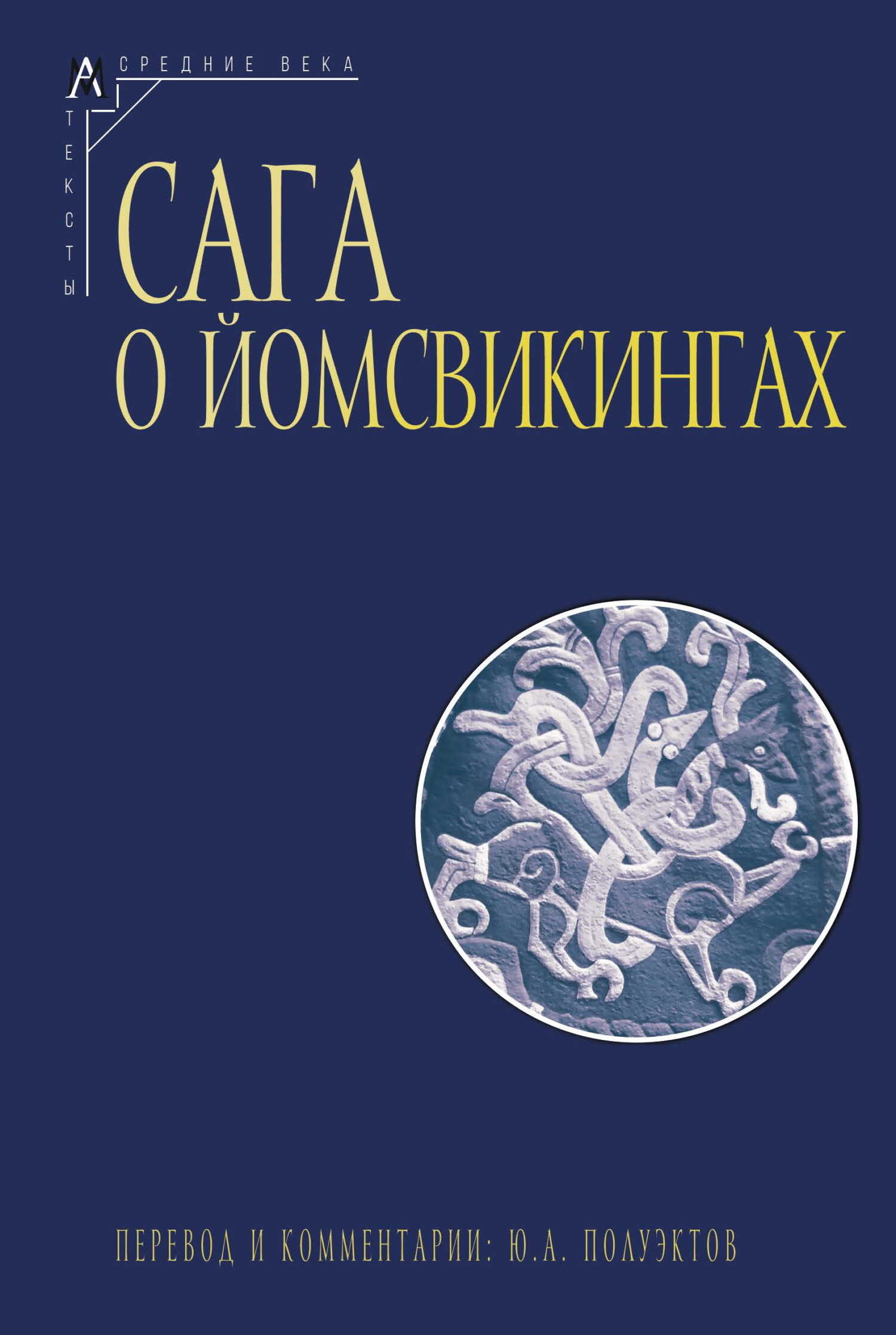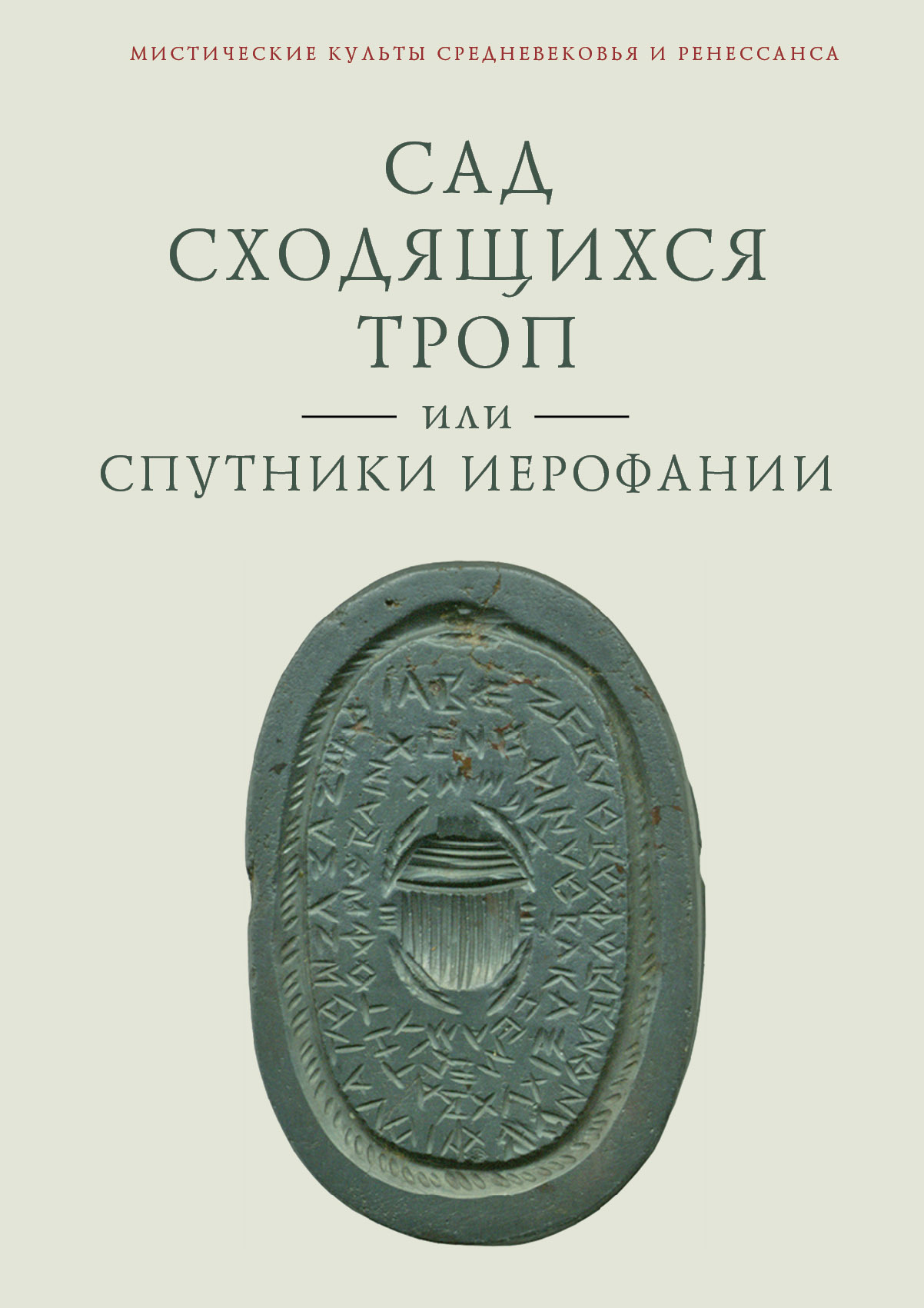Маргиналии средневекового искусства: эссе об истории и культуре - Майкл Камил
Книгу Маргиналии средневекового искусства: эссе об истории и культуре - Майкл Камил читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Glossa Ordinaria («общепринятая глосса»), большой комментарий к Библии, доведенный до совершенства в школах Парижа, и комментарий к псалмам Петра Ломбардского служат важными примерами подобного нового подхода к чтению в конце XIX века [19]. В рукописях глосс Питера Ломбарда фигуры и действия иногда изображаются на чистом пергаменте по бокам страницы не столько для иллюстрации, сколько для комментариев к соседнему тексту. В рукописи, подаренной Кентерберийскому собору в конце XIX века, изображен Августин, указывающий пикой на святоотеческий комментарий, где на него ссылаются, и он же держит свиток с надписью «non ego», как бы сообщая: «Я этого не говорил» (илл. 5). Глосса здесь буквально «говорит» в терминологии Гуго Сен-Викторского, высказываясь не за текст, а против него.
Илл. 5. Св. Августин не согласен. Комментарий Петра Ломбардского к псалмам. Тринити-колледж, Кембридж
Псалтирь Ратленда, созданная в Англии полвека спустя (ок. 1260 г.), – первая готическая рукопись, где появляется полностью развитая последовательность маргинальных изображений. На одной странице буква «р» латинского слова «conspectu» («видеть» или «проникать визуально») входит в задний проход лежащего навзничь рыбочеловека, соединяясь со стрелой экзотического лучника (илл. 6). Тогда как в глоссах Петра Ломбардского образы иногда вступали в спор со словами в тексте – здесь слово дает отпор. Подобный антагонизм, или «различие» между текстом и изображением, обусловлены важными изменениями в производстве рукописей.
Илл. 6. Текст против изображения. Псалтирь Ратленда. Британская библиотека, Лондон
В то время как в предыдущем столетии автор текстов и иллюминатор обычно бывали одним и тем же человеком, теперь оба вида деятельности все чаще практиковались разными людьми и социальными группами. Следование иллюминатора за писцом, с одной стороны, делало его труд второстепенным, но, с другой стороны, давало ему шанс подорвать авторитет уже написанного Слова. Не кто иной, как художник этой страницы Псалтири Ратленда, продолжил хвост буквы в задний проход нарисованной фигуры, возможно, намекая писцу на то, что он может сделать со своим пером. Зачастую подрывая авторитет текста, привлекая внимание к его «открытости», маргинальные образы тем не менее никогда не выходят за пределы (или внутрь) определенных границ. Игре место на игровой площадке, и точно так же, как писец следовал размеченным линиям, существовали правила, регламентировавшие игровое пространство маргинальных образов и прочно удерживавшие их на своих местах.
К концу XIII века ни один текст не избежал дерзкого взрыва маргинального беспредела. Как традиционные инструменты литургии – библии, миссалы и понтификалы, а также книги, принадлежавшие частным лицам для личных проявлений благочестия, в основном Псалтири и набирающие популярность часословы, – так и светские сборники, например рыцарских романов, и правовая литература, такая как декреталии, были заполнены визуальными аннотациями. Недавно переведенные на латынь рукописи «Физики» Аристотеля, переписанные для ученых в Оксфорде с множеством глосс и подстрочных дополнений, относятся к числу самых ранних примеров с независимыми маргинальными фигурами, веселящимися над «философом». Этот текст был действительно спорным: в течение XIII века рукописи запрещались и публично сжигались в Париже и Оксфорде дважды. В великолепном манускрипте Харлея, где на первом листе изображено сжигание книг, в начале четвертой книги «О небе» противопоставляются знание и невежество. Сидящий внутри буквы мудрец смотрит на звезды из-за своего стола, в то время как волнистая линия наверху резко возвращает нас на землю, ибо по ней катят в тачке разинувшего рот прокаженного идиота (илл. 7). Это и есть безумие, которое, как считали иные, могло возникнуть от избытка знаний? Здесь на полях уже отображаются знаки умопомешательства.
Илл. 7. Глупость пересекает философский текст. Физика Аристотеля. Британская библиотека, Лондон
Наиболее очевидно возрастающее самосознание маргинального художника можно обнаружить в английском часослове, примерно 1300 года, ныне хранящемся в Балтиморе, где писец забыл некоторые отрывки; эти corrigenda, или дополнения к тексту, поднимают, обозначают и ставят на нужные места крошечные строители (илл. 8). Открытый для неправильного копирования, неправильного прочтения, искажения и присвоения текст становится несовершенным физическим знаком – просто еще одним образом в падшем мире. В VIII веке монастырский писец-иллюминатор был уважаемой фигурой; иногда его пишущая рука почиталась как реликвия, потому что передавала Слово Божие. Писцы и иллюстраторы XIV века, напротив, были в основном профессионалами, получавшими оплату постранично; над их работой насмехаются обезьяны на полях Миссала, созданного в Амьене (илл. 9). В то время как ранние списки Евангелий сохраняют мифы о том, что они были созданы по указанию ангелов, готические рукописи нередко документируют свое материальное происхождение. Этот список имеет колофон, сообщающий нам, что он был заказан аббатом Иоанном Марсельским из Церкви Святого Иоанна в Амьене, что он был написан собственноручно (per manum) Гарньери ди Мориоло и иллюминован мирянином Петром де Рембокуром в 1323 году. Петр-pictor, вероятно, поиграл здесь с писцом (scriptor), так как внизу страницы изображена обезьяна, показывающая свой зад писцу с тонзурой, – предположительно, рисунок вдохновлен неудачным разделением слова семью строчками выше. Эта строка заканчивается разрывом слова «culpa» («вина») в ключевом месте: таким образом она читается как «Liber est a cul», что означает «Книгу в задницу!».
Илл. 8. Мужчина вставляет на место недостающий четвертый стих 127-го псалма. Часослов. Художественная галерея Уолтерса, Балтимор
Илл. 9. Обезьяны издеваются над письмом. Миссал, иллюстрированный Петром де Рембокуром, 1323 г. Королевская библиотека Нидерландов, Гаага
Хотя средневековое христианство было религией Слова, ко времени создания этой литургической книги уже широко распространилось недоверие к внешней стороне буквы и ее перепроизводству: «Ибо… во множестве слов – много суеты» (Еккл. 5:6). Возможно, страх распространения и профанации письменного Слова, или, скорее, слов,
Конец ознакомительного фрагмента Купить полную версию книги
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт