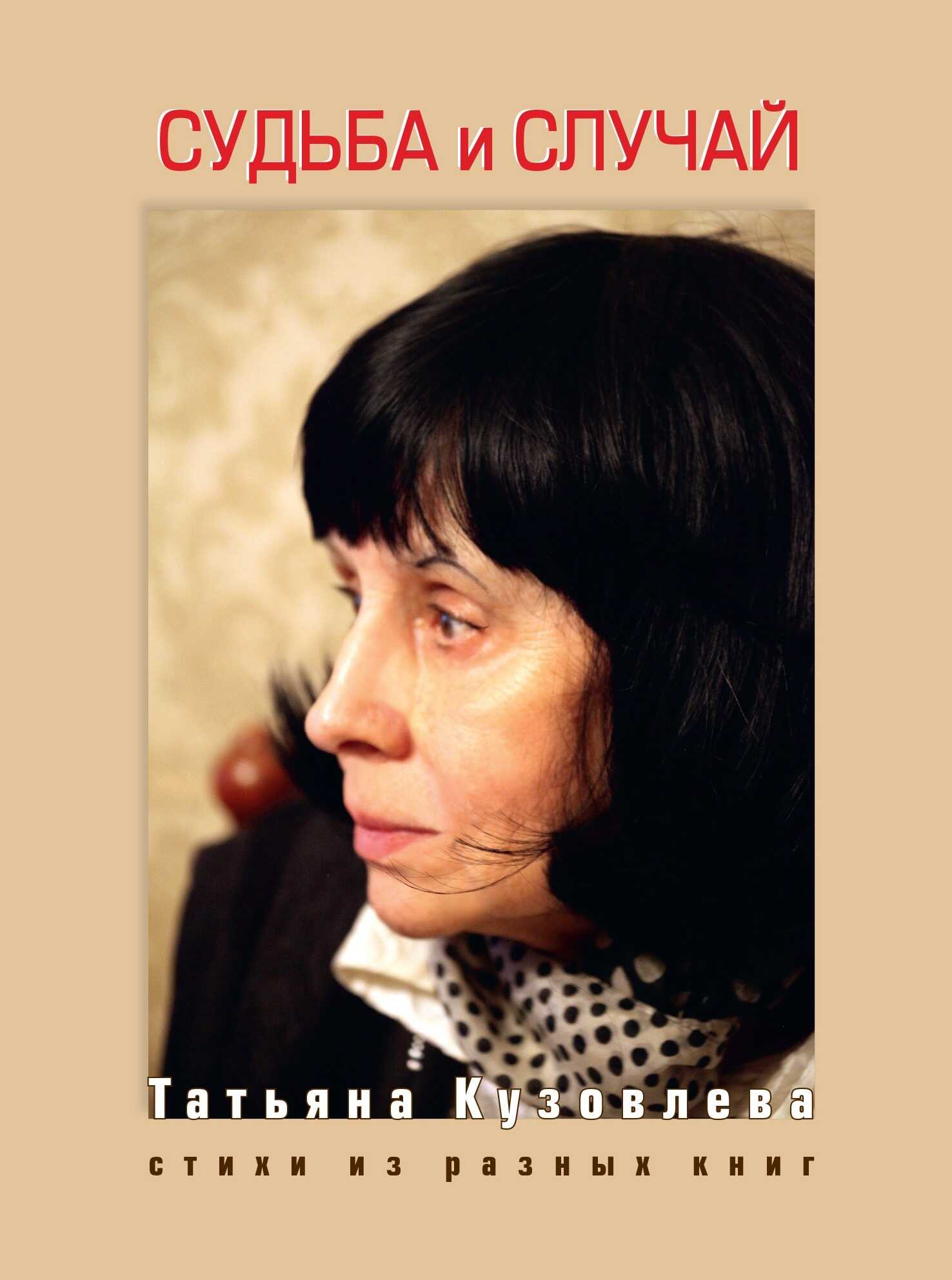Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова
Книгу Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Позднее, уже в 1970‑е, свое внимание на жизнь «маленького человека» обратили представители направления «микроистория» – Карло Гинзбург, Натали Земон Дэвис, Эммануэль Ле Руа Ладюри и другие. В центре их исследований – жизнь отдельной личности, семьи.
Одновременно об изменении отношения к историческим источникам нужно говорить и в контексте антропологического поворота, который пережили гуманитарные науки начиная с 1960‑х годов. Именно тогда формируется понимание значимости частной жизни, культуры повседневности. А ее изучение не может существовать без таких источников, как личные свидетельства. Антропологический поворот произошел под влиянием осмысления той катастрофы, которую пережила Европа в период Второй мировой войны.
В процессе этого осмысления стала складываться культура свидетельства, выраженная, например, в работах Примо Леви, итальянского поэта и прозаика, который был узником Аушвица. Его книга «Человек ли это?»[136] выходит первый раз сразу после окончания войны, а второй раз гораздо позже, когда и получает беспрецедентное распространение. Это размышление о том, что такое индивидуальность – как сохраняется она в обстановке концлагеря, как и за счет чего человек мог там выжить.
Когда история больше не мыслится как история военных действий, передвижений армии, завоеваний и отступлений, возникает необходимость обратиться к истории людей. Потому что каждый, кто стал жертвой или свидетелем случившегося, должен быть услышан. В этом контексте безусловно необходимо вспомнить о свидетелях на Нюрнбергском судебном процессе над нацистскими преступниками, чьи показания приобрели беспрецедентную важность для вынесения приговора.
Важнейшими устными свидетельствами стали и интервью, которые проводил Клод Ланцман в 1974–1980 годах и которые легли в основу его девятичасового фильма «Шоа». Среди интервьюированных были выжившие в лагерях заключенные, их дети и родственники, бывшие немецкие охранники и офицеры, польские крестьяне, проживающие вблизи бывших концлагерей, гражданские лица из Германии, переехавшие в Польшу во время Второй мировой войны, бюрократы нацистской Германии, историки и политические деятели. Их режиссер условно разделяет на три группы: жертвы Холокоста, нацистские преступники и пассивные свидетели происходившего. «Шоа» становится одним из важнейших документов, открывающих нам историю функционирования нацистской машины уничтожения, а также формирует корпус устных свидетельств, которые показывают, какова роль того «маленького человека», пассивного наблюдателя происходящего, который как будто не может ни на что повлиять, или одной из миллионов жертв, чьи имена так важно назвать.
Таким образом, осознание важности свидетельства не только как способа фиксации прошлого, но и как механизма исследования истории начинается именно с устных свидетельств и момента наделения голосом людей, ставших жертвами крупнейшей катастрофы XX века. Понимание силы, которой свидетельство обладает, приводит к тому, что не только исследователи и историки, но и художники, режиссеры, писатели начинают обращаться к историям людей, чтобы осмыслить случившееся через пьесы, фильмы и книги.
Кроме того, как пишет исследователь и публичный историк Штеффи Де Йонг в своей книге, свидетельство впервые в период с 1980‑х годов начинает осознаваться как музейный и выставочный объект[137], что приводит кураторов, музейных работников и исследователей к размышлениям о возможностях и границах показа свидетельств в пространстве музеев.
Формы свидетельств
Как было упомянуто ранее, культура свидетельства получает распространение благодаря устным показаниям в суде, рассказам очевидцев и жертв. Однако свидетельства могут быть и письменными – имеются в виду документы, созданные в тот момент, когда событие происходило: дневники или личная переписка. На материале дневников свидетельниц Холокоста, к примеру, была построена выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста»: в этих дневниках девушки, в числе прочего, писали о первой любви, о понравившейся музыке, о своих друзьях и соседях – и фиксировали происходящие события с подчас пугающей обыденностью.
У дневников нет конкретного адресата, а значит, они отличаются определенной степенью откровенности. Письма, напротив, имеют адресата, хотя и дневник пишется почти всегда с расчетом на то, что его кто-либо когда-то прочитает. Письма предполагают смещение акцента на отношения, которые разворачиваются в процессе переписки. (Letters to Max Эрика Бодлера является примером того, как свидетельство используется художником, чтобы показать разворачивающуюся дружбу.) Существует множество примеров опубликованной переписки известных художников, писателей, которая содержит истории любви, дружбы, даже сотворчества. Нас увлекает переписка потому, что дает возможность наблюдать не только за конкретикой повседневности той или иной эпохи, но и за тем, как устроена человеческая личность, как она проявляет себя в разных обстоятельствах.
Среди письменных свидетельств можно выделить и мемуары, которые отличаются от предыдущих типов свидетельств тем, что написаны уже спустя время после описываемых в них событий. Люди исследуют собственный опыт с дистанции, что предполагает, что воспоминания могут исказиться или, наоборот, обрести новые смыслы: авторы мемуаров могут выстроить новые связи между разрозненными эпизодами, что-то приукрасить или чего-то не договорить. То есть мемуары свидетельствуют о взгляде на историю из момента современности.
Таким образом, каждый тип свидетельства, включая и устное, представляет разные способы отражения истории. Это зависит от многих факторов, среди которых язык повествования автора, его позиция по отношению к событиям: является он их участником или наблюдает со стороны. Все эти факторы позволяют говорить о том, что свидетельство не является данностью, а представляет собой конструкт, формирующий оптику нашего взгляда на историю.
Мы остановимся на вопросе показа устных свидетельств, чтобы проанализировать, каким образом художники рассматривают ситуацию столкновения не только с личной памятью, но и с человеком, который делится собственными воспоминаниями. Как пишет исследователь и автор книги Witnesses. Beckett, Dante, Levi and the Foundations of Responsibility Роберт Харви, возникновение фигуры свидетеля после Второй мировой войны ставит вопрос не только о том, кто рассказывает, но и о том, кто находится по другую сторону, кто слушает и присутствует при свидетельстве[138]. Именно ситуация взаимодействия между свидетелем и слушателем интересует современных художников, так как выставка позволяет смоделировать такую ситуацию.
Свидетельство как элемент выставочного диспозитива
Говоря о свидетельстве как о конструкте, мы предполагаем, что художник, работающий с ним, также выстраивает собственный взгляд на него. Значит, выставки, построенные на свидетельствах, представляют особый тип репрезентации истории за счет удвоения оптики взгляда. В основе выставки лежит не просто документ, а устный рассказ, что предполагает интерес к тому, о чем говорит человек, что именно рассказывает. Свидетель, вспоминая о событии, может забыть его подробности и дополнить забытые фрагменты. Часто мы, беседуя с пожилыми родственниками о прошлом, можем наблюдать, как они повторяют одни истории, при этом периодически меняя детали. Кроме того, если мы говорим не просто о биографическом повествовании, а о воспоминаниях о катастрофах, войнах, травме, то предполагаем, что человеку трудно
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
-
 Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
-
 Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова
Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова