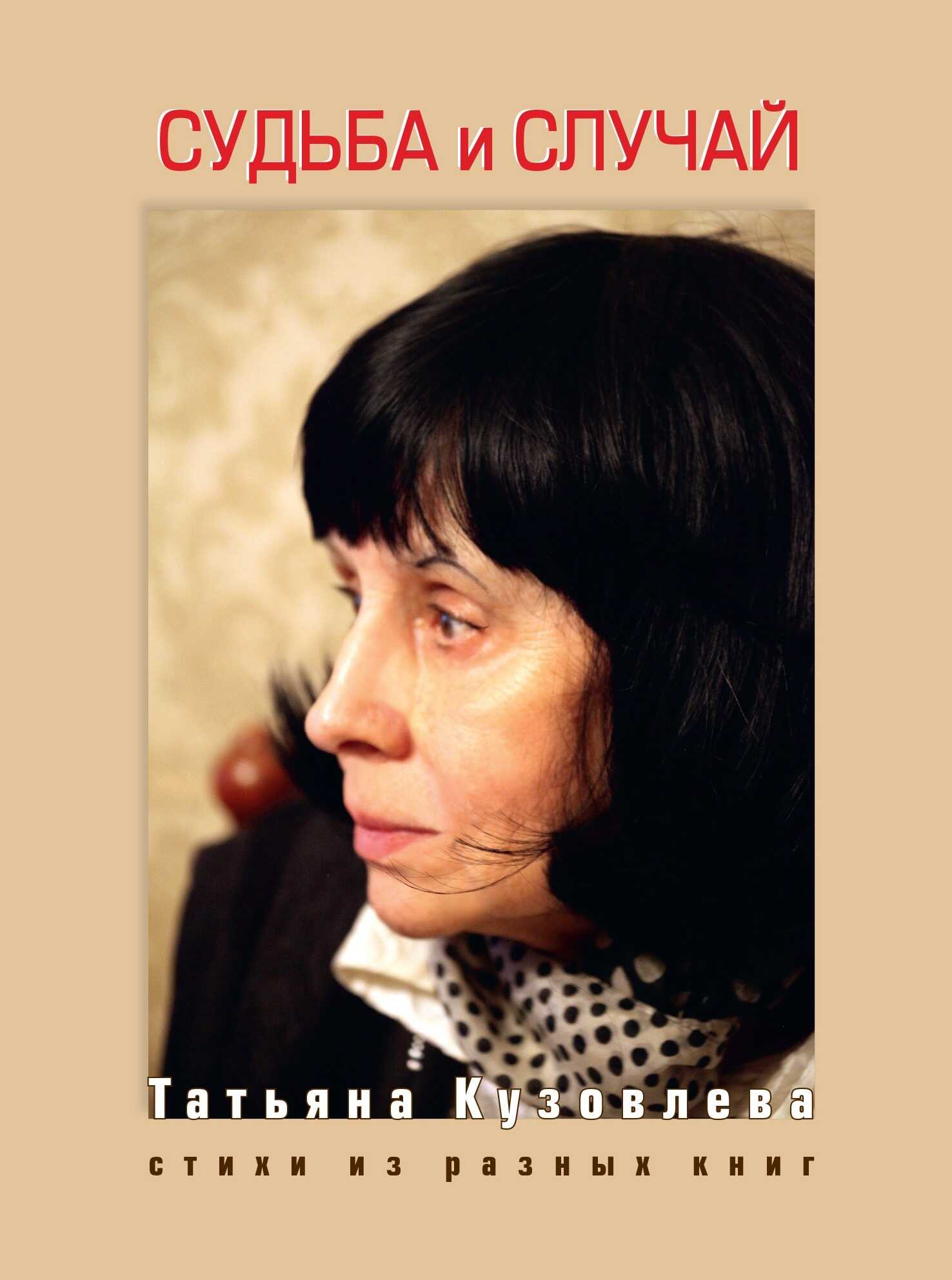Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова
Книгу Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наш взгляд на личное свидетельство опосредован еще и точкой зрения художника, а значит, вопрос истории связан со способами ее показа. Как художник работает со свидетельством? Он выбирает те или иные свидетельства для выставки, то есть с самого начала уже выстраивает собственную рамку восприятия истории. Кроме того, он выбирает не только материал, но и способ показа, который и формирует наше восприятие как зрителей. Представлены ли свидетельства одним лишь голосом или мы можем увидеть лица? Способ показа предполагает столкновение зрителя со свидетельством один на один или это коллективный опыт? Есть ли возможность у зрителя отстраниться от взаимодействия со свидетельством или выставка устроена так, что он должен слушать, смотреть, воспринимать? Например, в музее «Яд Вашем» посетитель не может покинуть экспозицию раньше времени, он должен пройти ее до конца, – и даже если он пробежит по ней бегом, то все равно увидит отдельные образы, лица, предметы, услышит обрывки рассказов.
Таким образом, мы можем говорить об определенной настройке нашего взгляда художником путем организации материала и поиском способов его показа. Другими словами, художник выстраивает выставочный диспозитив вокруг свидетельства. Диспозитив как инструмент анализа выставки предполагает в данном случае несколько способов использования.
Первый способ определен выставкой как системой, в которой власть понимается как «пучок – более или менее организованный, более или менее пирамидальный, более или менее согласованный – отношений»[139]. Когда мы говорим о выставках, основанных на материале свидетельств, возникает вопрос о власти, потому что художник работает с чужими воспоминаниями, и в процессе работы они изменяются, обрезаются, редактируются, – а потом и зритель, оказавшись в пространстве выставки, привносит в них собственный опыт. Поэтому необходимо проанализировать, как строится выставочный диспозитив работы со свидетельствами, то есть каким образом регламентируется взгляд зрителя на личную память.
Второй способ позволяет увидеть, в какой момент свидетельство инструментализируется, то есть история человека редуцируется до материала для художественного высказывания. Удвоение оптики взгляда на историю через личную память свидетеля и работу художника открывает множество возможностей для манипуляции зрительским опытом. Диспозитив как способ «фокусировки… в определенное время и в определенном месте на конкретном субъекте власти»[140] предполагает, что художник управляет нашим взглядом и показывает свидетельство под определенным углом зрения. Он может вмешиваться в исторический материал, монтируя фрагменты рассказа или дневниковых записей, а может оставить источник нетронутым. Однако контекст места, где проходит выставка, концептуальные обоснования проекта, ситуация показа – все эти элементы являются частью системы властных отношений, пронизывающих выставку. Свидетельство в ней может оказаться инструментализированным, а может раскрыть новые смыслы, которые не были проявлены ни историками, ни другими исследователями.
Рассмотреть, как формируется оптика взгляда на свидетельство в современных выставках, кажется возможным на примере работ одной из наиболее известных художниц, работающих с вопросами памяти, уже не раз упоминавшейся Эстер Шалев-Герц. Художница израильского происхождения, живущая во Франции, последовательно исследует способы работы с личными историями людей. Ее проекты ставят вопрос о взаимодействии художника и свидетеля, о том, где проходит граница между художником как слушателем и собеседником, и художником, для которого рассказ – это основа для дальнейшей работы. Этот вопрос является одним из ключевых, когда мы говорим о фиксации личного опыта, потому что сложно определить, насколько художник может вмешиваться в личную историю. Однако мы понимаем, что сам выбор показа материала – уже вмешательство, так или иначе направляющее восприятие зрителя. В работах Шалев-Герц мы можем проследить, как трансформируются личные свидетельства, становясь частью выставочных проектов.
Свидетельство в публичном пространстве. Уязвимость свидетеля
Выставка Эстер Шалев-Герц Between Listening and Telling: Last Witnesses, Auschwitz 1945–2005[141] прошла в Ратуше в Париже в 2005 году и была приурочена к 60-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц. Эстер Шалев-Герц вместе с командой записала разговоры с шестьюдесятью людьми, пережившими Холокост и сейчас живущими в Париже. В процессе интервью участники говорили о своей жизни в период до и после заключения.
В Ратуше, где проходила выставка, были установлены столы с мониторами, и зрители могли выбрать те свидетельства, которые они хотели бы послушать. Но ключевым элементом выставки стало видео, которое состояло из тех фрагментов интервью, где участники не могли говорить, делали паузы, плакали и запинались. Три видео были размещены на трех экранах, где изображения следовали друг за другом с паузой в семь минут.
В работе Шалев-Герц важны несколько моментов. Во-первых, вопрос о том, что может становиться свидетельством. Ведь в центр выставки художница выводит не интервью с рассказами свидетелей, а именно те фрагменты, где они молчат. Таким образом, свидетельство фиксирует не столько прошлый опыт, сколько опыт настоящего, когда прошлую жизнь и заключение описать невозможно, трудно, сложно подобрать слова, – в таком случае свидетельством становится молчание.
Очень важно, что Шалев-Герц признает за материалом право свидетельствовать не только через разговор, но и через тишину[142]. Этот на первый взгляд очень простой ход – убрать из видео любые слова и оставить только то, что между словами, – заставляет обратить внимание не только на то, что рассказывается, какие ситуации описываются и каким опытом делятся свидетели, но и на то, как они это делают. Легко ли им говорить о своей жизни? То, что обычно оказывается на периферии интереса и тех, кто занимается устной историей (oral history), и просто интересующихся историей в целом, здесь выходит на первый план и становится центром нашего интереса. Еще раз повторим: как можно говорить, если говорить практически невозможно?
Второй момент связан с переводом личного, причем не просто личного, а очень сложного и травматичного опыта, в публичное пространство. И здесь мы возвращаемся к вопросу о выстраивании выставочного диспозитива, потому что, осуществляя этот перевод, художник наделяется властью формировать зрительский взгляд на интервью, до этого являвшиеся скорее частными материалами. Шалев-Герц помещает эти видео на большие экраны, а значит, зрители смотрят их вместе, а не один на один с экраном, как в случае интервью. Участники показаны в наиболее уязвимых и хрупких состояниях, а у посетителей практически нет возможности отвести глаза или не взглянуть на экран хотя бы раз.
В этом и заключается один из главных вопросов выстраивания выставочного диспозитива работы с памятью и историей. Художников интересуют прежде всего документы, фиксирующие личный опыт. А если мы говорим о войнах, Холокосте, репрессиях, то этот опыт почти всегда болезненный и травматичный. Тогда как можно показать такой
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
-
 Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
-
 Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова
Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова