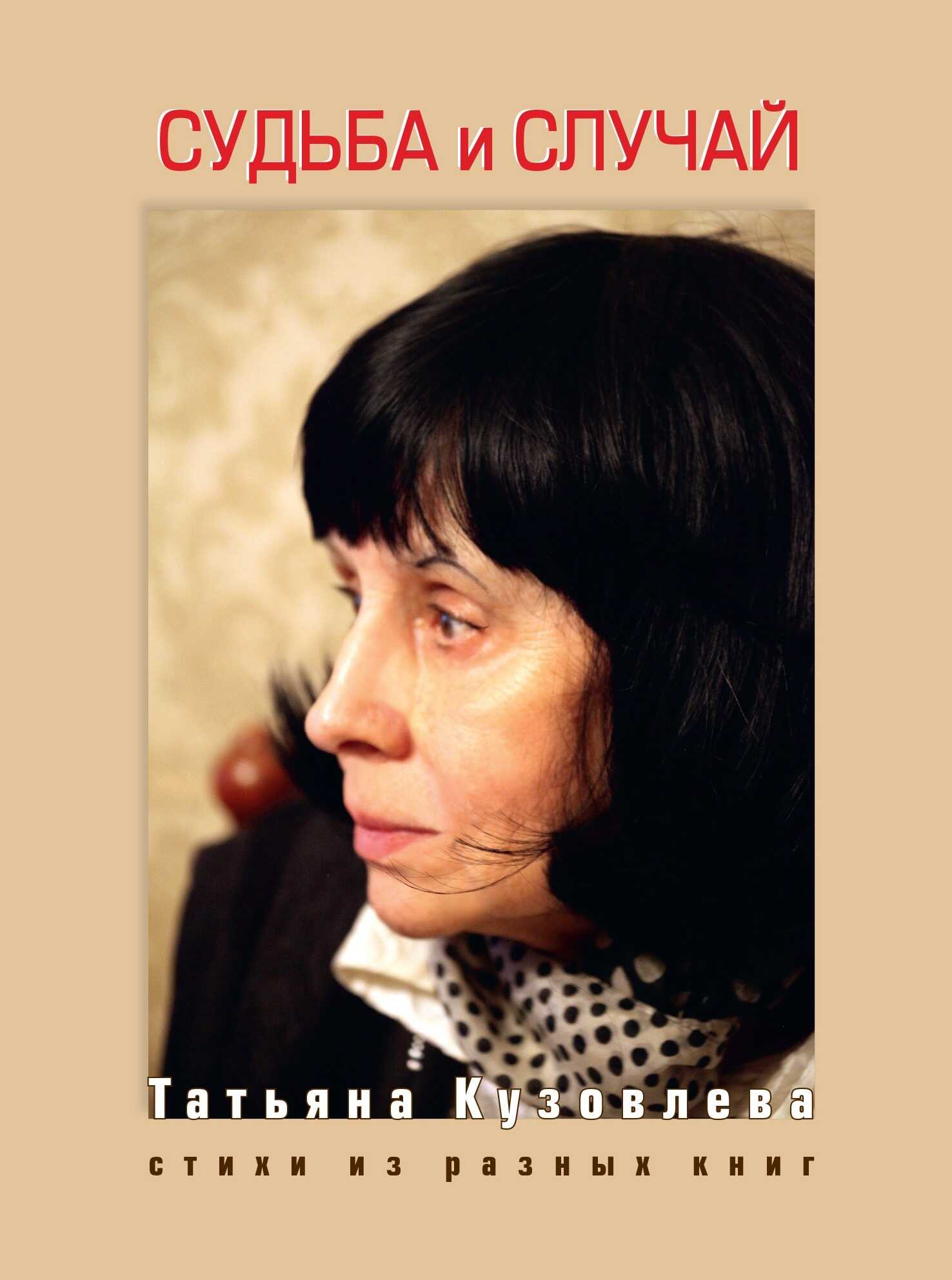Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова
Книгу Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
§ 6. Исторические выставки: столкновение документа и современного искусства
В предыдущих главах мы рассматривали проекты, существующие в поле современного искусства. Однако проблема оптики документальности затрагивает не только художественные выставки, но и события в музеях памяти, музеях и центрах, работающих с историей. В последнее время мы можем наблюдать тенденцию соединения в выставочном пространстве личных документов и работ современных художников. Пересечение разных типов материалов создает контекст для возникновения новых смыслов там, где инсталляции, видео, объекты вступают во взаимодействие с дневниками, фотографиями, устными историями. Подобные проекты всегда подразумевают выстраивание выставочного диспозитива таким образом, чтобы современное искусство и документы существовали наравне, предлагая особый взгляд на личную историю через образы и одновременно через отпечатки действительности.
Рассмотреть этот вопрос можно на примере двух выставок в нехудожественных музеях. Анализ выставок «Анна Франк. Дневники Холокоста» в Еврейском музее в Москве и «Засушенному – верить» в Музее «Международного Мемориала» дают возможность увидеть, каким образом кураторы выстраивают оптику документальности, используя документальные и художественные материалы.
Смотреть на современное искусство через текст
Уже бегло упоминавшаяся здесь выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста»[157] в Еврейском музее в Москве представляет буквальное соединение художественного и документального материалов. Куратор Моника Норс соединяет работы крупнейших художников XX века (Кристиана Болтански, Ансельма Кифера, Мирослава Балки, Германа Нитча) и дневники девушек, которые стали жертвами Холокоста: Анны Франк, Элен Берр, Рутки Ласкер, Эвы Хейманн, Мари Берг и Элизабет Кауфманн. Механическое сопоставление документального материала и объектов современного искусства создает ситуацию, в которой материалы разной природы начинают бороться друг с другом.
Фрагменты дневников показаны на больших панно, где текст выбит, как бы изъят из поверхности. Панно размещены на стенах небольших выставочных комнат, иногда занимая все пространство стен, и порой тексты трудно читать из‑за особенностей освещения и обилия материала. В то время как большие, яркие инсталляции и видео художников привлекают внимание зрителей, тексты дневников оказываются на периферии его внимания, становясь «поддержкой» для современного искусства, документальной гарантией их попадания в музей.
Дневники повествуют о повседневных вещах, о музыке, о мечтах («Больше всего я хочу велосипед, чтобы ездить в библиотеку, где я могла бы есть и читать одновременно. Идеальная ситуация»[158]) и влюбленности. Это записки молодых девушек о жизни вокруг них. Элен Берр, например, пишет о том, как в соседних окнах играет музыка, переживает за возлюбленного и описывает каждодневные ритуалы. В дневниках – реальная история, полностью лишенная пафоса. Трагическое появляется после того, как мы узнаем дальнейшую судьбу героинь. Здесь возникает важный момент между временем написания документа и интерпретацией. И интерпретацией становятся те работы, которые куратор выбирает для показа на выставке.
Первой работой становится инсталляция Кристиана Болтански Purim. Она открывает экспозицию еще до того, как зрители видят фрагменты дневников. Purim состоит из увеличенных фотографий детей, наряженных в карнавальные костюмы для празднования Пурима. Это, повторим, один из любимых приемов Болтански – увеличивать фотографии до момента, когда они теряют любые признаки документальности, другими словами, перестают отсылать нас к конкретному событию, периоду. Все размывается, остаются только лица. Purim, как и многие другие работы Болтански, утверждают важность человеческой жизни перед лицом истории.
Инсталляция Болтански наиболее точечно взаимодействует с фрагментами дневников, выводя темы, затронутые в текстах, за пределы контекста Холокоста. Однако далее в пространстве выставки эти общие вопросы ценности человеческой жизни, отношения человека с памятью и смертью как бы отходят на второй план. А Schuttbild Германа Нитча, грандиозное полотно Kosmos Und Demian Ансельма Кифера и Testimony Хаима Сокола (эмоционально окрашенные рисунки на копировальной бумаге) переводят интерпретацию дневников в конкретную плоскость эмоционального переживания, ощущения трагедии.
Живописная работа из серии Schuttbild Нитча отсылает к перформативным акциям венских акционистов, являясь документацией одного из ритуалов группы, осуществленного в 1960‑х годов. Используя кровь и туши животных в своих радикальных перформансах, художники критиковали нежелание Австрии осмыслить катастрофические последствия войны. Задачи, которые ставил перед собой Нитч тогда, нивелируются тем, что сейчас в перформансах принимают участие все желающие, при этом оплачивая собственное участие.
Работа Ансельма Кифера, как и все его творчество, также направлено на репрезентацию ужаса Холокоста как германской катастрофы. Для куратора Кифер выступает представителем «искусства после Аушвица»[159], который ищет способы «показать рану исторической реальности, которую показать невозможно никак, кроме как через жест стирания»[160]. Живописной манере Кифера свойственна кажущаяся расфокусированность, которую создают длинные объемные мазки, как будто размывающие поверхность и отсылающие к идее исчезания.
Объект Нитча, живопись Кифера, а вслед за ними и скульптура Вадима Сидура, активно работавшего с темой насилия и травмы в скульптуре, направлены на поиски способов представления ужасов войны и тех последствий, с которыми столкнулось современное им общество. Так куратор размышляет о том, как показывать невозможное, – но предлагает ответы и рассказы художников 1960–1970‑х годов, когда политика памяти строилась совсем по-другому. Находясь внутри современной ситуации и читая дневники Анны Франк, Элен Берр, Рутки Ласкер, Эвы Хейманн, Мари Берг и Элизабет Кауфманн, зрители задают себе другие вопросы, и кураторский выбор становится неочевидным, непонятным, не адекватным той интерпретации, которую мы хотим видеть сейчас. Огромное полотно Кифера, которое сложно охватить взглядом, яркие образы Нитча, отсылающие к ритуальным перформансам, оттесняют документы на второй план – и визуально, и концептуально. Ценность каждого дневника, каждого события, пережитого авторами, теряется за размышлениями о трагедии, от которой не оправился мир.
Выставка заканчивается видео Мирослава Балки Bambi. Художник снимает руины лагеря Аушвиц зимой, и в камеру попадает семья оленей, гуляющих по территории бывшего лагеря. Так после ужаса наступает успокоение, эмоциональное переживание прошлого сменяется тихой скорбью. Однако в так устроенной оптике восприятия событий теряются документы – дневники, которые должны были быть главными элементами выставки. Зрителю, вынужденному пробираться через узкие специально выгороженные пространства, сложно при этом одновременно читать большие отрывки текстов. В итоге и дневники теряют связь с реальными событиями, которые они описывают, и работы, которые должны были предложить интерпретацию документов, заслоняют их, превращая
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
-
 Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
-
 Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова
Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова