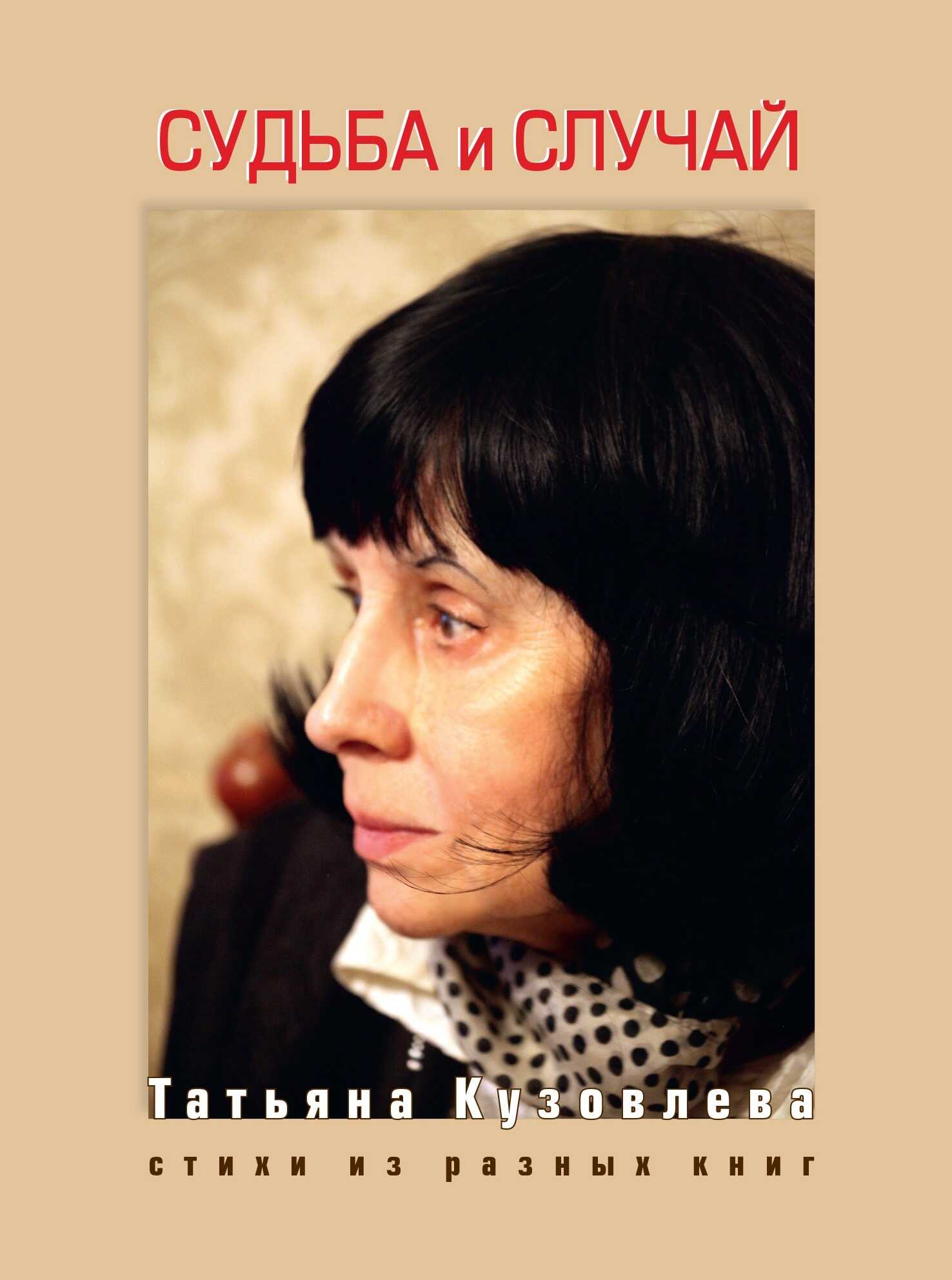Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова
Книгу Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Работа с документом как способ взаимодействия со зрителем
Другую стратегию соединения документального и художественного материалов в рамках исторической выставки предлагает проект «Засушенному – верить»[161] (см. ил. 11 на вкладке), инициированный куратором Тимирязевского музея Надей Пантюлиной. Выставка является частью более общего проекта, в рамках которого «на основе гербария музея, научных описаний растений-переселенцев, а также материалов партнеров проекта предоставлено свидетельство перемещений людей и растений во времена ГУЛАГа»[162]. Выставка поднимает вопрос о хрупкости памяти, существуя на пересечении исследования способов художественной репрезентации историй и создания образовательного, просветительского проекта. Это и определяет специфику работы куратора с документальным материалом: мы можем увидеть, что, хотя на выставке были представлены работы современных художников – Андрея Кузькина, Хаима Сокола, Ивана Щукина, – наиболее важными оказываются художественные способы предъявления документального материала.
В экспозиции использованы документы и гербарии из Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, Московского университета имени М. В. Ломоносова, Музея Норильска и других институций и частных собраний. Интересно, что такой хрупкий и на первый взгляд недолговечный материал наделяется статусом документа и позволяет увидеть истории и судьбы тех, чьих свидетельств мы уже не услышим. Именно вокруг гербариев собрана вся выставка, они оказываются центральным элементом, настраивающим оптику взгляда на историю Соловецкого лагеря.
В пространстве выставки пересекаются растения и гербарные листы, истории заключенных, предметы, найденные в экспедициях. Камни, куски древесины и другие находки, сделанные на Соловках, можно трогать и рассматривать. Артефакты размещены в пространстве экспозиции наряду с архивными фотографиями и кураторскими текстами, сделанными от руки карандашом, как заметки на полях. Предметы расставлены так, как могли бы разместиться на полке в квартире: фотографии перемешаны с памятными сувенирами, и каждый гость знакомится с историей человека через эти предметы. Так же и здесь: зрители попадают в ситуацию, где они могут взаимодействовать с объектами на выставке, рассматривать их и трогать, погружаясь в пространство памяти.
В одном из залов выставки представлены тюремные нары, и каждый посетитель может физически, а не только через фотографии, соотнести себя с лагерной действительностью. А рядом кураторы предлагают поиграть в игру: составить аббревиатуру СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) из слов лагерного жаргона. При переходе из одного зала в другой можно встретить инсталляцию из стульев: на них размещены копии документов и статей, по которым были осуждены заключенные. «Типология обвинений» (см. ил. 12 на вкладке) сценографа Петра Пастернака представляет собой спинки стульев, которые раскачиваются, имитируя скрип тюремных замков. Каждый может создать собственный звуковой ландшафт выставки, раскачивая их один за другим.
Описанные выше элементы являются частью очень важного зрительского опыта. Они позволяют погрузиться в историю и занять активную позицию по отношению к выставке. При этом каждый из элементов основан на конкретном, документальном материале, в чем видится большой образовательный потенциал. Важность столкновения с подлинными документами и местами, в данном случае через найденные предметы[163], является значительной частью педагогики памяти. Именно подлинные свидетельства и объекты в противовес традиционному историческому образованию создают контекст для получения необходимого опыта.
История на выставке «Засушенному – верить» намеренно лишена героизации и состоит из личных историй заключенных. Вокруг этих историй и документов кураторы выстраивают ситуации, каждый раз заставляя нас по-разному взаимодействовать с ними: играть, встраиваться в пространство, прикасаться к артефактам. Даже сами гербарии уже создают ситуацию восприятия свидетельств как тех, что в любой момент могут исчезнуть и раствориться. Такое многообразие траекторий побуждает зрителей размышлять и сопереживать.
Именно конкретный опыт дает возможность говорить не об абстрактном, а о спорном, конфликтном, о том, что может замалчиваться. Как мы видим, в рамках исторических выставок обращение к инструментам современного искусства формирует совершенно иной контекст восприятия документов в отличие, например, от исторических или этнографических экспозиций. Обращение к работам современных художников позволяет увидеть свидетельства под другим углом, раскрыть в документе новые смыслы – и, собственно, расширить само понимание документа. Как мы увидели на примере выставки «Засушенному – верить», документальным статусом наделяются гербарии и другие артефакты соловецкого ландшафта. И здесь важно отметить: то, как куратор проводит границу между документами и художественными произведениями, будет определять зрительскую оптику взгляда на память и историю.
§ 7. Современное искусство в музеях совести
Современное искусство все активнее проникает в нехудожественные музеи – биологические, исторические и антропологические: они становятся площадками для выставок или сами инициируют совместные проекты. Еврейский музей в Берлине последовательно работает с современными художниками, затрагивая вопросы миграции, социального неравенства в рамках выставок, а Дарвиновский музей в Москве уже несколько лет является одной из площадок для проведения Московской биеннале современного искусства. Этот новый процесс ставит перед музеями и искусством задачи соединить разные типы материалов в одном пространстве и сделать взаимодействие эффективным. Поэтому возникают вопросы: можем ли мы говорить о реальном взаимодействии, если музей становится площадкой для выставки на тему истории, биологии или этнографии? Можно ли считать любое проявление современного искусства на территории музея внутрикультурным диалогом? И как мы оцениваем, а значит, анализируем такое взаимодействие двух сфер, по-разному работающих с современным искусством? Особенно остро эти вопросы звучат, когда мы обращаемся к современному искусству в особых музеях – музеях совести.
Возникновение музеев совести отсылает к определенному политическому и культурному контексту и является показателем сразу нескольких изменений. Во-первых, музеи совести демонстрируют изменение отношения к памяти, возникающее на волне процессов, обозначенных Алейдой Ассман как новая
форма мемориализации, политическая и культурная цель которой заключалась в общественном признании жертв и необходимом им воздаянии справедливости, но не увековечивании памяти о них на все времена[164].
Другими словами, музеи совести сосредоточены прежде всего на том, как память о прошлом влияет на политическую, социальную жизнь сейчас. Они создают инструменты для «политического и социального признания»[165] преступлений и запуска процесса их переосмысления из настоящего момента. Поэтому для музеев совести так важны междисциплинарные проекты, направленные на поиски взаимодействия со зрителем не только через экспозицию, но и через другие каналы.
Во-вторых, меняется социальное отношение к музею. Процесс изменения не только захватил уже существующие музеи, но и повлиял на возникновение новых институций. Ключевой задачей музеев становится необходимость просвещения, образования и осуществления взаимодействия между институцией и зрителем. Поэтому появляются разные концепции музеев с акцентом на соучастие (такие, например, как партиципаторный музей[166]), на изменение роли зрителя и различные интерактивные опыты, на музейную педагогику. Таким образом, музеи
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
-
 Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
-
 Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова
Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова