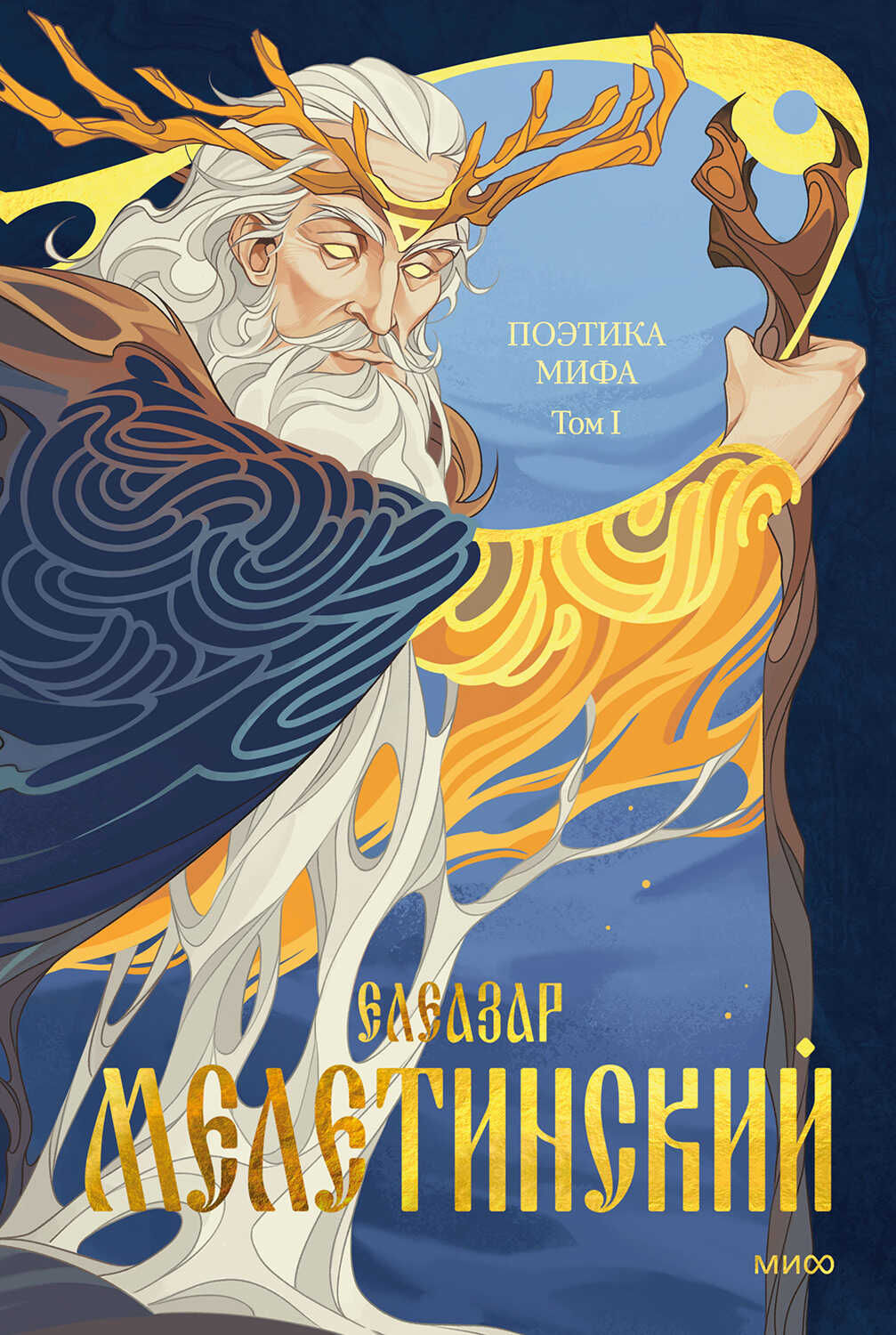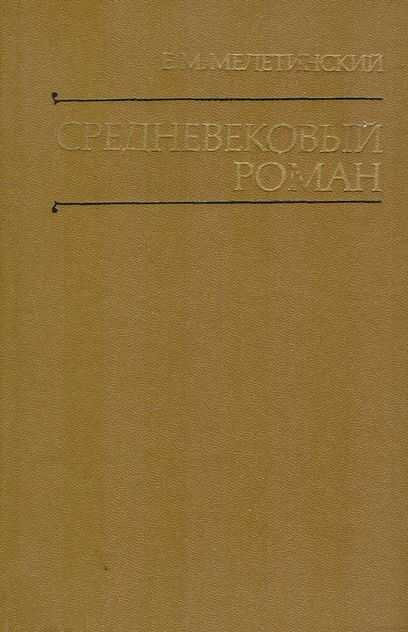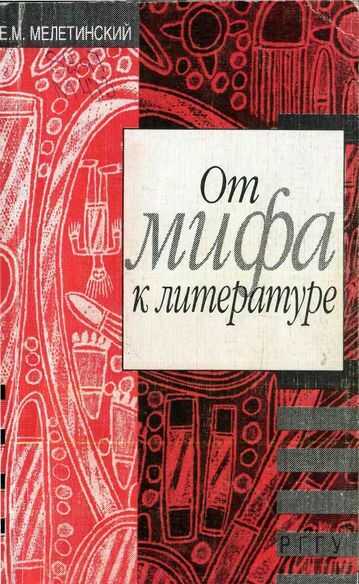Поэтика мифа. Том II - Елеазар Моисеевич Мелетинский
Книгу Поэтика мифа. Том II - Елеазар Моисеевич Мелетинский читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Разумеется, не все в предложенной схеме может быть истолковано только в свете календарных обрядов. Например, похищения и возвращения женщин обязательная тема богатырских сказок-песен народов Сибири, в которых нет речи об аграрных календарных обрядах; борьба с чудовищами входит в мифы и календарные, и инициационные (значение последних подчеркнула Леви), и в мифы о культурных героях и т. п. И все же несомненно, что именно календарные аграрные мифы были важнейшими моделями для эпопей классической древности. Елена и Сита, например, были прямо связаны с аграрной мифологией. Многие эпические герои, даже имеющие исторические прототипы, определенным образом соотнесены с теми или иными богами и их функциями; поэтому некоторые сюжеты или фрагменты сюжетов воспроизводят традиционные мифологемы, что, впрочем, вовсе не доказывает происхождение эпического памятника в целом из мифов и ритуальных текстов.
Жорж Дюмезиль в своей новой (1968–1973) трехтомной монографии «Миф и эпос» продемонстрировал, как описанная им ранее индоевропейская трихотомическая система мифологических функций (магическая и юридическая власть, воинская сила, плодородие) и соответствующие ей иерархические или конфликтные соотношения между богами воспроизводятся на «героическом» уровне в «Махабхарате», римских легендах и даже в осетинской версии нартских сказаний. Пандавы в «Махабхарате» являются фактически сыновьями не бесплодного Панду, а богов (Дхармы, Вайю, Индры и Ашвинов) и в своем поведении повторяют в какой-то мере функциональную структуру, в которую входят эти боги[16]. Реликты подобной структуры Дюмезиль усматривает даже в «Илиаде», где принц-пастух Парис, выбрав Афродиту, восстановил против себя Геру и Афину, представляющих иные «мифологические» функции, и навлек войну. В истории разрушительной войны пандавов и кауравов Дюмезиль также усматривает перенос на эпический уровень эсхатологического мифа (ср. аналогичное явление в ирландской традиции). С учетом мифологической субструктуры героических эпопей Дюмезиль получает возможность выявить и объяснить целый ряд эпических параллелей в древней литературе индоевропейских народов (скандинавской, ирландской, иранской, греческой, римской, индийской).
Таким образом, мифологическая подпочва сохраняется и в классических формах эпоса. Однако эти классические формы, развившиеся в условиях отчетливой государственной консолидации народностей — носителей эпической традиции, несомненно, совершают важные шаги на пути демифологизации. В отличие от архаической эпики они опираются на исторические предания и прежде всего пользуются их «языком» для повествования о событиях далекого прошлого, но все же прошлого не мифического, а исторического, точнее квазиисторического. Основное различие с архаикой — не в степени достоверности рассказа, а именно в «языке» повествования, которое передается в терминах не космических, а этнических, оперирует географическими названиями, историческими именами племен и государств, царей и вождей, войн и миграций. Эпическое время (Микены, распри куру-панчала с кауравами, великое переселение народов, империя Карла Великого, Киевская Русь эпохи Владимира Святого, государство четырех ойротов и т. д.) строится по типу мифического, как начальное время и время активных действий предков, предопределивших последующий порядок, но речь идет уже не о творении мира, а о заре национальной истории, об устройстве древнейших государственных образований и т. д.
Мифическая борьба за космос против хаоса преобразуется в защиту родственной группы племен, государства, своей «веры» против «захватчиков», «насильников», «язычников», иногда наделенных мифическими и колдовскими атрибутами. Но «шаманский» ореол эпического героя полностью отпадает, уступая место чисто воинской героической этике и эстетике. В отличие от сказки героический эпос не воспринимается как вымысел, и в этом смысле миф и эпос почти в равной мере могут быть противопоставлены сказке. Только в романическом эпосе (рыцарском романе) линии героического эпоса и волшебной сказки как бы сливаются. Романический эпос осознается как художественный вымысел.
Часть III. «Мифологизм» в литературе XX века
Историческое введение
Генетически литература связана с мифологией через фольклор; в частности, повествовательная литература, которая нас занимает в первую очередь, — через сказку и героический эпос, возникшие в глубоких недрах фольклора (разумеется, многие памятники эпоса и сказки продолжали свое развитие или даже заново создавались в качестве книжных произведений). Соответственно драма и отчасти лирика первоначально воспринимали элементы мифа непосредственно через ритуалы, народные празднества, религиозные мистерии.
Как мы видели, сказка и героический эпос, а также древнейшие виды театра являются одновременно формой сохранения и формой преодоления мифологии. Поэтому не следует удивляться, что наряду с прямым обращением к древним мифам мифологическая традиция часто усваивается литературой именно через эти каналы.
Хорошо известно, что вся античная литература пропитана мифологией и мифологической космологией, но античные мифы не забываются и в Средние века, хотя отчасти отодвинуты на периферию христианской демонологии, а отчасти воспринимаются эвгемерически или аллегорически. Известная степень демифологизации античного язычества сопровождается изживанием «языческих» мифов кельтов, германцев и других, которые, однако, также становятся источником поэтического, литературного вымысла. В целом средневековая литература остается во власти христианской религиозной мифологии, гораздо более спиритуалистической и исходящей из рассмотрения предметного мира в качестве материальных знаков высших «небесных» религиозно-нравственных сущностей. Аналогично положение на средневековом Востоке, где в культуре доминирует мифология буддистская, индуистская, даосистская или мусульманская. Такое доминирование мифологии в культуре способствует сохранению в большей или меньшей мере черт «символической формы искусства» в гегелевском понимании (вопреки тому, что сам Гегель видел эту форму только на Древнем Востоке и противопоставлял ей классическую и романтическую формы). Порождающая символизм тотальная семиотичность культуры является оборотной стороной мифологизма. Разумеется, и в рамках самой античной (особенно у Овидия или Лукиана) и даже средневековой литературы (например, в западном куртуазном романе и восточном романическом эпосе, в сатире и дидактике) мы встречаем целую гамму эстетизированной, рефлективной, критической, иронической и тому подобной интерпретации традиционных мифов, однако серьезный отход от тотального символизма начинается только в эпоху Возрождения. Когда самоценность земного предметного мира и человеческой самодеятельности безусловно ставится во главу угла, в искусстве возникает сознательная установка на подражание природе, прекрасной природе, несущей яркие следы человеческой самодеятельности. Все же нельзя не согласиться с Л. Баткиным, который пишет, с одной стороны, что «Возрождение — последняя целостная культурная система, построенная на архетипах, т. е. на
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Илюша Мошкин12 январь 14:45
Самая сильная книга из всего цикла. Емец докрутил главную линию до предела и на сильной ноте перешёл к более взрослой и высокой...
Мефодий Буслаев. Первый эйдос - Дмитрий Емец
Илюша Мошкин12 январь 14:45
Самая сильная книга из всего цикла. Емец докрутил главную линию до предела и на сильной ноте перешёл к более взрослой и высокой...
Мефодий Буслаев. Первый эйдос - Дмитрий Емец
-
 (Зима)12 январь 05:48
Все произведения в той или иной степени и форме о любви. Порой трагической. Печаль и радость, вера и опустошение, безнадёга...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских
(Зима)12 январь 05:48
Все произведения в той или иной степени и форме о любви. Порой трагической. Печаль и радость, вера и опустошение, безнадёга...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских
-
 Гость Раиса10 январь 14:36
Спасибо за книгу Жена по праву автор Зена Тирс. Читала на одном дыхании все 3 книги. Вообще подсела на романы с драконами. Магия,...
Жена по праву. Книга 3 - Зена Тирс
Гость Раиса10 январь 14:36
Спасибо за книгу Жена по праву автор Зена Тирс. Читала на одном дыхании все 3 книги. Вообще подсела на романы с драконами. Магия,...
Жена по праву. Книга 3 - Зена Тирс