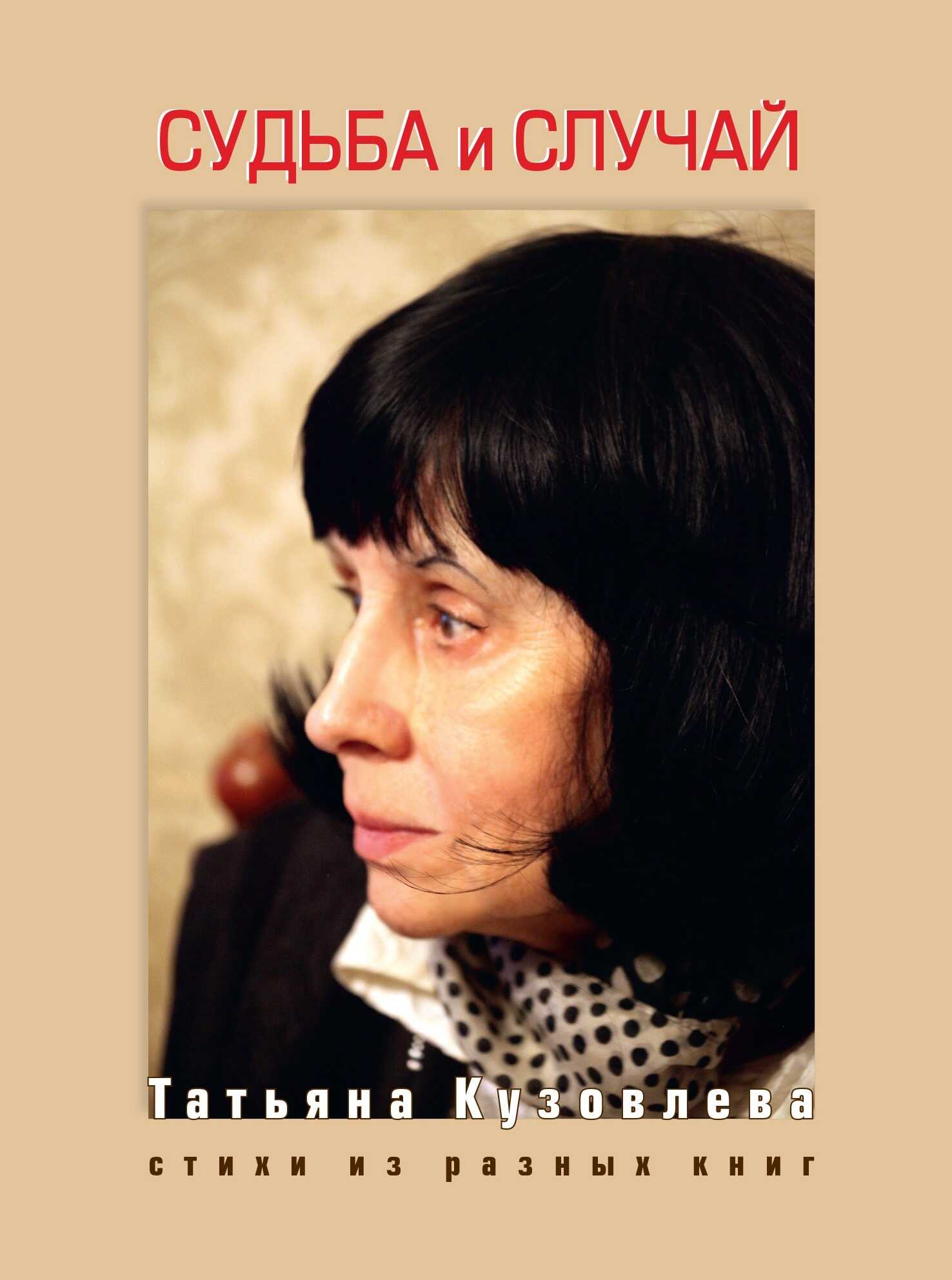Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова
Книгу Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве - Татьяна Леонидовна Миронова читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Таким образом, процессы, происходящие в искусстве в 1960‑е годы, приводят к тому, что документ появляется как инструмент показа работ, недоступных для зрителя, расположенных в труднодоступных местах или, как перформанс вне стен галерей, порой существующих незаметно для потенциального зрителя. То есть документ выступает как часть процесса документации. Кроме того, он становится инструментом самоисследования художника, ставшим следствием расширения понимания объекта искусства и осознания важности процесса – в противовес законченным работам.
В дальнейшем, когда художники начинают активно исследовать память и историю, документ как способ фиксации собственных действий остается важным инструментом для работы. Из документации художественных действий он превращается в способ исследования. К примеру, литовский художник Деймантас Наркявичюс берет интервью у Питера Уоткинса, режиссера-документалиста, а затем использует запись в своей работе The Role of a Lifetime (см. ил. 3 на вкладке). То есть на новом этапе обращения к документу трансформируется из способа фиксации художественного действия и начинает формировать структуру художественной работы, что ставит вопрос о соотношении документального и художественного в современном искусстве.
Документ и повседневность: личная память в публичном пространстве
Интерес к обыденным действиям, который отражали перформансы Иржи Кованды, является частью более широкого явления, связанного с интересом к повседневности в целом. В 1950–1960‑х годах происходит пересмотр отношений между высоким и низким в искусстве, снятие границ между ними, и, как следствие, открытие художниками повседневности. Ярким примером снятия границ являются работы художников поп-арта, активно включавших в свои коллажи и инсталляции вырезки из рекламных журналов, а также предметы, купленные в супермаркете. Здесь кажется важным упомянуть работу Энди Уорхола Brillo Boxes, когда в галерее художник показал коробки мыла, или же работы Роя Лихтенштейна, использовавшего стилистику комиксов.
Возникновение новых средств художественного выражения привело к включению предметов повседневной жизни, среди которых оказались и документы, в пространство искусства. К примеру, Кристиан Болтански уже в 1960‑е годы создает книги и инсталляции, основанные на фотографиях и фотоальбомах. К 1973 году относится Inventory of Objects Belonging to a Young Man of Oxford[39] – серия фотографий предметов быта, якобы принадлежащих студенту Оксфорда. Примерно то же самое он делает во многих своих работах, например в Album de Photos de la Famille D., где фото разных семей объединены в один альбом. В контексте обращения к повседневности интересна и работа Болтански вместе с художником Жаном Ле Гаком. Художники подписывали окна парижских домов, обозначая, что там жили выдуманные люди, таким образом «документируя» городское пространство и как будто бы приоткрывая двери в частную жизнь людей. Как часто бывает с работами Болтански, принадлежность предметов человеку оказывается вымышленной, позволяющей художнику соединить разные объекты и наделить их общей историей, а фотографии – статусом документа.
Попадая в пространство современного искусства еще и как инструмент исследования повседневной, частной жизни, документ начинает существовать на границе личного и публичного. Работы Болтански, в которых вопрос об этой границе выражен очень внятно, оказываются крайне важны для последующих периодов работы с документом.
Именно в тот момент, когда художник начинает исследовать повседневность, выставляя личные документы на выставках, встает вопрос о работе документа в публичном пространстве. Под публичным пространством понимается пространство выставки, которое формирует, согласно Юргену Хабермасу, пространство дискуссии, открытое и основанное на принятых всеми участниками критериях и стандартах[40]. Публичное пространство в понимании Хабермаса представляет собой среду взаимодействия, которая определенным образом «модерирует критическое поле»[41]. Показанный на выставке документ существует уже не только для художника внутри его мастерской, он оказывается предъявленным зрителю, причем не сам по себе, а опосредованный рамкой, заданной выставкой. Таким образом, документ попадает в пространство множества интерпретаций, зрительской оценки, художественных репрезентаций. Однако может ли он при этом сохранять воспоминания или теряет это свойство? Необходимо проследить, как он трансформируется, перемещаясь из пространства личной памяти в публичное пространство.
Эти вопросы появляются еще в 1960‑е годы, когда интерес к личному, к повседневному только возникает. Однако позже, когда документ становится не только способом исследования повседневности, но и механизмом для исследования истории и памяти о XX веке, они становятся не просто важными, – они становятся ключевыми. Потому что в работу включаются не только документы обычной мирной жизни, но и свидетельства войны, репрессий, которые предполагают совсем другие стратегии показа в публичном пространстве.
Документальные свидетельства личной памяти об истории войн, геноцида, репрессий часто обозначают как sensitive material, подразумевая, что они фиксируют ужасные события и человеческие страдания. Таковыми эти материалы делает связь с конкретными людьми, которые стали участниками, жертвами, свидетелями истории. А значит, работа с ними подразумевает особое отношение и особые инструменты, которые позволят показать то, что документы сохраняют. Другими словами, художник работает с чужими воспоминаниями, зачастую трагическими, что предполагает поиск баланса между вмешательством в личную память и выстраиванием условий для его показа.
Художественные практики работы с архивом: между историческим и художественным
Безусловно, обращение к документу нельзя не связывать с «архивным поворотом» в современном искусстве, который описал Хэл Фостер в тексте «Архивный импульс»[42]. Он связывает всплеск архивного искусства с расширением личных архивов и развитием интернета, что заставляет художников искать возможности
обеспечить физическое присутствие исторической информации, часто утерянной или вытесненной. Для этого они работают с найденными образами, объектами и текстами[43].
Архивное искусство Фостер трактует довольно широко: среди архивных практик в искусстве и исследование исторических архивов, и создание собственных коллекций и хранилищ.
Однако интерес к архивам у художников появляется гораздо раньше, что обозначил куратор и арт-критик Окуи Энвезор в тексте и выставке Archive Fever: Uses of the Documents in Contemporary Art[44]. Точкой отсчета интереса к архиву для него становятся концептуальные работы Дюшана, в рамках которых он собирает миниатюрные версии своих работ, таким образом самоархивируя собственные художественные практики.
Существует множество типов архивных художественных практик, среди которых самоархивация, работа с вымышленными архивами, что часто используют художники Восточной Европы: к примеру, группа IRWIN создает фиктивные архивы и генеалогию собственного искусства, точкой отсчета выбирая супрематизм. Как пишет Наташа Петрешин-Башлез, для художников Восточной Европы работа с архивом становится важной частью интеграции в общее европейское поле искусства, потому что позволяет преодолеть разрыв в способах выражения и создать ситуацию сопричастности к истории искусства[45].
Кроме того, архив может становиться пространством для взаимодействия зрителя и истории. Так происходит в
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
-
 Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
-
 Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова
Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова