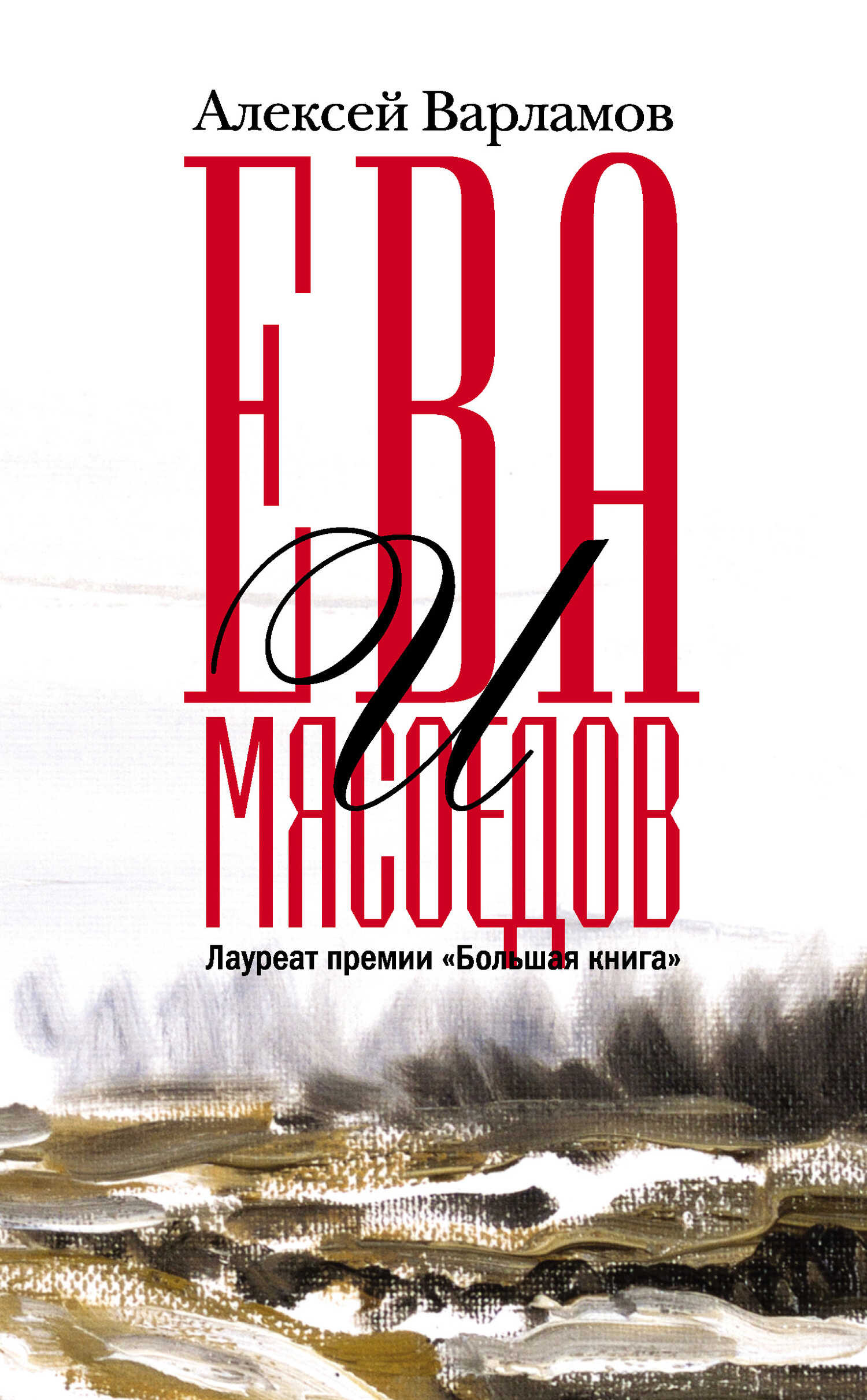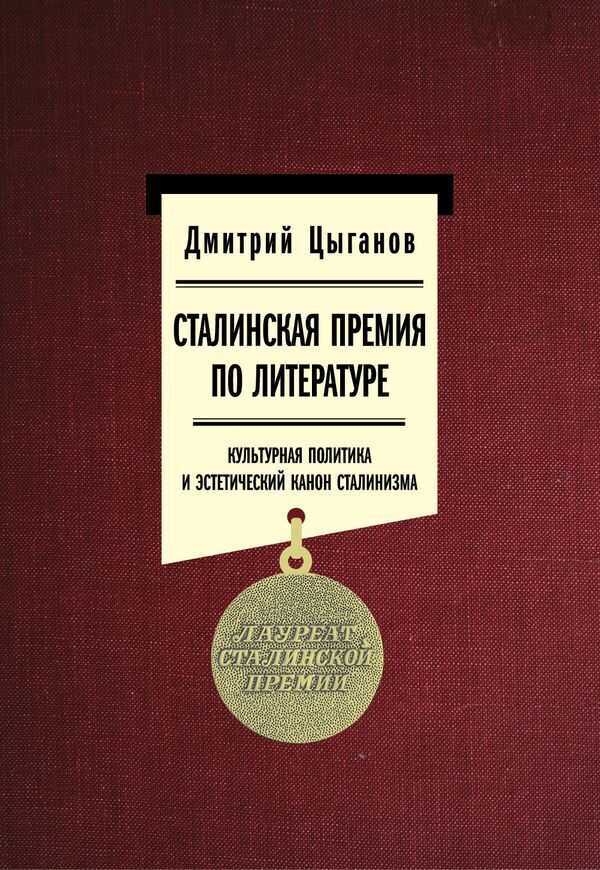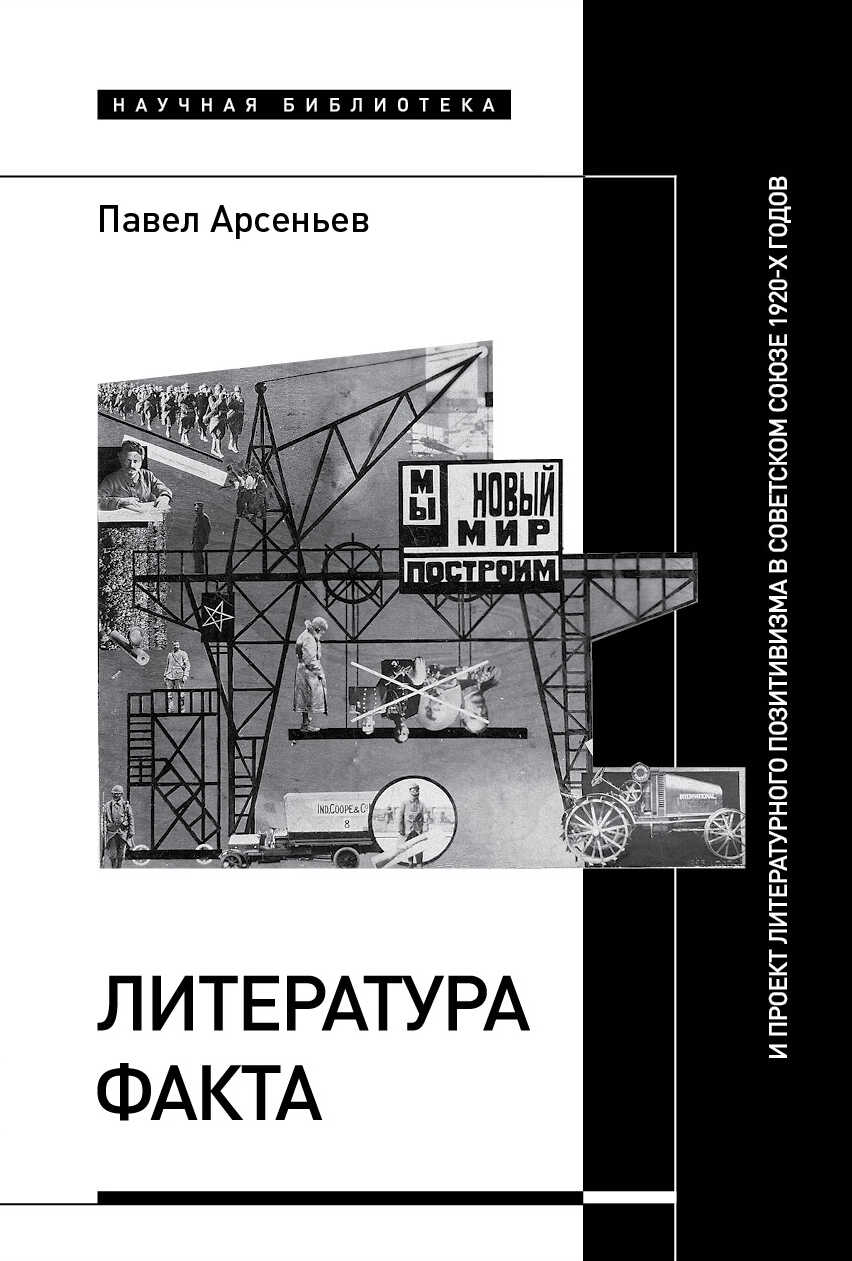Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского - Валерий Александрович Подорога
Книгу Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского - Валерий Александрович Подорога читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Обретенный жизненный опыт не открывался Достоевскому в рефлексивной конструкции прошлого. И в этом не было никакой необходимости, так как кривая времени замкнута на саму себя: время, свершаясь, себя устраняет. Вот почему весь опыт времени собирается не в одном измерении, не в линейном сцеплении исторического (эпического), но собирается, я бы даже сказал, «нагнетается» из множества разнокачественных по протеканию событий, ведь в каждом из них страстно желаемое будущее – остановка времени. Индивидуальное становление как самоцель осуждалось Достоевским крайне решительно. Термин «обособление» он использовал, чтобы подчеркнуть разрыв между замыкающейся в себе индивидуальной жизнью, отдельным «сознанием» и нравственно-целостными основами народной жизни. План истории, независимый от нравственно-религиозного выбора, ставился им под сомнение. Для него была чужда мысль о линейном развитии времени истории. Говорить о «прогрессе», «субъекте истории», «цивилизации» тем более абсурдно, что существует Евангельский первотекст, завершивший в одном великом образе Спасения все события мира. Достоевский постоянно размышляет о том, откуда могла возникнуть эта навязчивая потребность в высказывании своеволия, обособления человеческого «я» перед лицом высшей нравственной силы, воплощенной в образе Христа.
«Человек, как личность, всегда в этом состоянии своего общегенетического роста – становился во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех. Терял поэтому всегда веру в Бога. (Тем кончались всякие цивилизации. В Европе, например, где развитие цивилизации дошло до крайних пределов, т. е. до крайних пределов развития лица, вера в бога в личностях пала.) Это состояние, т. е. распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и все сознает.
Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели, мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указал Христос»[314].
В любой момент катастрофический спазм может остановить поток мгновений повседневной событийности. Настоящее как симптоматика конца этого мира, должно найти спасение в благодатной мощи Евангельского канона, превосходящего все меры человеческого времени. Событие катастрофическое, конечно, не может быть освоено рассказчиком как деиктическое. Балансируя в потоке рассыпающихся мгновений, хроникер-рассказчик безуспешно пытается их упорядочить, совместить, одни отбросить, другие, напротив, выделить, удержать в памяти в качестве решающих, несущих смысл повествования. Казалось бы, вполне естественно представить рассказчика в качестве эпического наблюдателя. Но для Достоевского такого рода повествование невозможно. Мгновения настоящего, все эти миги, не синтетичны, они не могут быть упорядочены, хотя и скапливаются, даже «слипаются» в ком, но не исчезают там, а вибрируют, колеблются, сталкиваются, распадаясь на более мелкие и неприметные частицы (которые мы привыкли считать элементами рассказа). Время настоящего – время пористое, дырчатое, существующее за счет непредсказуемости всякого последующего мгновения, его невидимой корреляции со временем, которое отсутствует и, тем не менее, всегда нам дано, – со временем вечности. Линейный прогрессирующий ход времени остановлен, ни одно из мгновений настоящего не относимо к прошедшим мгновениям, проектирующим будущее, они пойманы в ловушку вечного – единый континуум становления любого времени.
Срединный интервал времени настоящего, который мы обозначаем на схеме как вдруг-время, накапливает разнообразные микрочастицы события (письма, записки, секреты, тайные желания, разноречивость и непонятность звучащих голосов, слухи, крики, стоны и т. п.). И вся эта коммуницирующая масса следов медленно движется по направлению к точке-схождения (Х-СОБЫТИЕ), попадая в водоворот с другим темпом и ритмом. В непосредственном наблюдении (с точки зрения хроникера-рассказчика) они даны лишь как знаки, помечающие пористость, дырчатость и удивительную пластичность литературного пространства, в котором энергия события пульсирует с разной частотой, отыскивая место для будущего прорыва. Это воронка, точка последнего схождения, дает выход из времени свершающегося в исполнившееся. Вечное нами отмечено как форма для любого вида времени, или чистое бытие времени, которое ни в каких моментах не соотносимо со способом человеческого переживания времени. Именно это и не позволяет сформироваться единому трансцендентальному источнику времени (известному в классической философии) – субъективности, связывающей подвижные и быстро исчезающие мгновения причинными законами воспоминания и памяти. Как сказал бы Достоевский, не позволяет «обособиться»… Время, о котором мы здесь рассуждаем, себя не помнит, не помнит и того, кто пытается его вспомнить. Для наблюдателя, который находится внутри события, время течет бесконечно медленно, поскольку каждое из мгновений времени, которое он переживает (и дает нам его пережить), продолжает делиться на мельчайшие мгновения. Для внешнего наблюдателя, располагающегося, в отличие от «внутреннего», в календарном, следовательно, исчислимом времени (или времени Истории), такое невозможно. Делясь, время не исполняется – оно не переходит ни в прошлое, ни в будущее, оно «зависает» в россыпи исполняющихся мгновений. Нечто подобное замедленной киносъемке, когда предельная быстрота отдельных кадров отражается в бесконечном и замедляющем себя повторе одного события («слуха», «голоса», «жеста» или «сцены»). Сначала медленное развитие основной сюжетной линии. Герой повествования, тот же Раскольников, например, предстает в начале повествования в виде свернутой, сжатой точки, поле его психомиметической реактивности только формируется. Но вот начинается движение, пока на месте, но потом все больше в одном направлении, по мере того как вокруг героя (после «преступления») сплетаются все нити событий, и он начинает развиваться, отражаясь в двойниках, и вновь возвращается к себе, чтобы прервать цикл психомиметического удвоения и попытаться стать собой.
Постепенно обнаруживается и единый ритм романной формы. Перемещения хроникера-рассказчика даются в широкой амплитуде общего планируемого движения. События описываются чуть ли не в момент их рождения, в тех временных точках,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 TatSvel219 июль 19:25
Незабываемая Феломена, очень интересный персонаж, прочитала с удовольствием! Автор-молодец!!!...
Пограничье - Надежда Храмушина
TatSvel219 июль 19:25
Незабываемая Феломена, очень интересный персонаж, прочитала с удовольствием! Автор-молодец!!!...
Пограничье - Надежда Храмушина
-
 Гость Наталья17 июль 12:42
Сюжет увлекательный и затейный,читается легко,но кто убийца,сразу было понятно....
Дорога к Тайнику. Часть 1 - Мария Владимировна Карташева
Гость Наталья17 июль 12:42
Сюжет увлекательный и затейный,читается легко,но кто убийца,сразу было понятно....
Дорога к Тайнику. Часть 1 - Мария Владимировна Карташева
-
 Гость Дарья16 июль 23:19
Отличная книга. Без сцен 18+, что приятно. Легкий и приятный сюжет. Благоразумная ГГ, терпеливый и сдержанный ГГ. Прочла с...
Королева драконов - Анна Минаева
Гость Дарья16 июль 23:19
Отличная книга. Без сцен 18+, что приятно. Легкий и приятный сюжет. Благоразумная ГГ, терпеливый и сдержанный ГГ. Прочла с...
Королева драконов - Анна Минаева