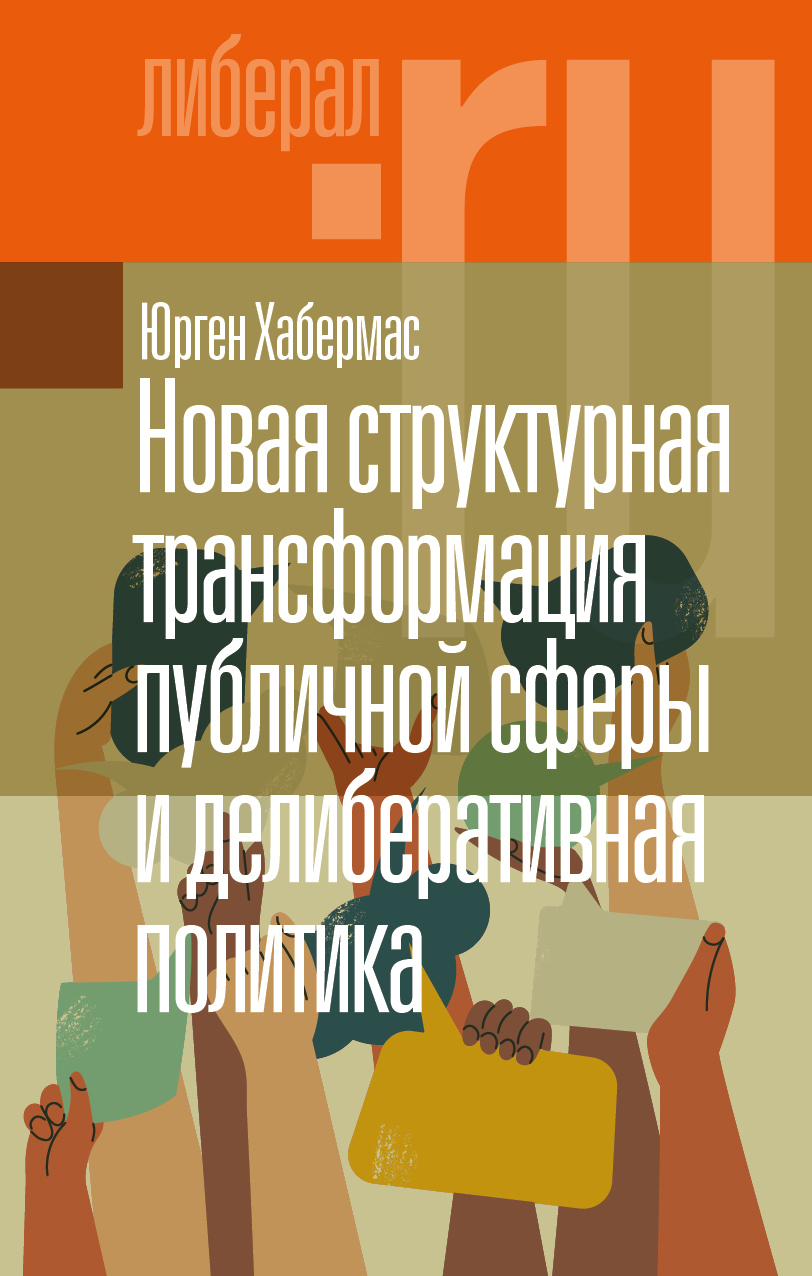«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас
Книгу «Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Какими были Ваши взаимоотношения с Хилари Патнэмом, которого Вы хорошо знали и который неоднократно переменял свои философские взгляды самым коренным образом?
Отношения с Хилари Патнэмом с самого начала были очень дружескими, и таковыми они всегда оставались. Хилари пригласил меня в Гарвард – кажется, это было в начале семидесятых: по крайней мере, студенческие протесты на тот момент еще определенно не улеглись окончательно – и в Кембридже поприветствовал такими словами: «Hello, Jürgen, you must know – I am an Engelsian» [«Здравствуйте, Юрген, Вам следует знать: я – энгельсианец»]. За такой саморекомендацией стоял математик и теоретик науки, знакомый к тому же с физикой, поддержавший студентов-марксистов и сам нашедший свой путь к Марксу через натурфилософию Энгельса. В этот момент, как бы то ни было, я сразу понял, почему он вообще меня пригласил. Патнэм, как и Рорти, был, что называется, red diaper baby [ребенком в красных подгузниках]: имеется в виду, что он рос в семье коммунистов. И всю свою жизнь он оставался убежденным левым. На тот момент он прочел какие-то наши с Апелем работы и заинтересовался современным вкладом в марксистскую общественную теорию. Думаю, ничего другого он тогда от меня и не ждал. Я, конечно же, был наслышан о статусе Патнэма; знал я и о том, что он учился у Райхенбаха. Тем не менее его сочинений я в те годы даже не видел: в Штарнберге, помимо философии языка, я занимался только общественно-научными вопросами. На момент нашей встречи Патнэм, скорее всего, уже размышлял над темами, к которым подступил затем в последней главе своей «Reason, Truth, and History»[16]. Сошлись мы, конечно же, благодаря политическим убеждениям. Но в итоге я многому у Патнэма научился, особенно по части теории познания.
В последующие четыре десятилетия мы встречались с ним снова и снова, по самым разным поводам. Он даже провел как-то целый год во Франкфурте по приглашению Вильгельма Эсслера. На юге Франции Патнэм однажды позвал с собой Уте и твердо вознамерился найти наконец тот дом, в котором он жил с родителями в раннем детстве, вплоть до первых школьных годов. Позднее своей вступительной лекцией он открывал во Франкфурте конференцию по случаю моего семидесятилетия[17]. Мы оба отталкивались от Витгенштейна и потому в философии языка быстро нашли общие основания. Что же касается теории познания, то я очень глубоко усвоил внутренний реализм Патнэма: в какой-то момент я даже начал защищать эту линию в разговорах с самим Патнэмом, который на тот момент уже повернулся к эмпиризму. Его каузальная теория значений показалась мне в высшей степени убедительной. Но в теории морали камнем преткновения – несмотря даже на общие прагматические предпосылки – для нас всегда оставалось отношение к Канту: точно так же, как и в случае с Бернстайном. Публично мы в последний раз дискутировали с Патнэмом в 2000 году: это был разговор о «ценностях против норм» на организованном в честь Патнэма мюнстерском конгрессе[18]. В следующие десять лет мы еще несколько раз, при схожих обстоятельствах, встречались с ним в Эванстоне, но, к сожалению, возможности побеседовать о последнем повороте Патнэма так и не представилось; а он от философской этики обратился к сущностному содержанию трех, как он однажды выразился, укорененных в Иерусалиме «авраамических религий», то есть, в общем, вернулся к иудаизму.
С каких пор Вы по-настоящему погрузились в идейную традицию лингвистического анализа?
Все началось, как я уже упоминал, в Гейдельберге: с Витгенштейна, с Карнапа, с Поппера, от которых я критически дистанцировался, и с апелевского указания на ранние работы Пирса. Со второй половины шестидесятых годов, как уже тоже приходилось упоминать, я начал активно заниматься лингвистикой и читал труды британских аналитиков. От Витгенштейна, герменевтики и фрейдовского аналитического метода я шагнул к теории коммуникативного действия, и здесь наиболее значительную роль сыграло интенсивное изучение всей литературы по теории истинности и, самое главное, по теории речевых актов. После «Теории коммуникативного действия», если отставить влияние Брэндома, я, главным образом, занимался совершенствованием, уточнением и дальнейшим развитием своего теоретического подхода, а в девяностые годы разрабатывал дискурсивную теорию морали и ее дополнения в виде теории права и теории демократии. Здесь уже на первом месте стояло взаимодействие с Джоном Ролзом и Рональдом Дворкином, а также обращение к таким авторам, как Фрэнк Михельман или, скажем, Юн Эльстер.
Правда ли, что влияние аналитической философии оказалось решающим только для Вашей теории языка, а в Вашей практической философии оно не столь уж значительно?
Крупица истины в этом есть, но в целом дела обстоят несколько иначе, ведь «анализ» – это в первую очередь стиль, охватывающий собой все «философствование» как таковое. Тем не менее мой вариант теории морали восходит в гораздо большей степени не к англосаксонским импульсам, а к разговорам с Апелем, к дискуссиям с Паулем Лоренценом и, в более поздние годы, с моим другом Эрнстом Тугендхатом. Кроме того, прояснению моих идей очень поспособствовало постоянное их обсуждение с Томом Маккарти. Особым значением для меня, конечно же, отмечен и «семейный конфликт» с Джоном Ролзом. Ролз был старше меня всего лишь на восемь лет, но с самого начала он внушал мне благоговение как философ глобального значения и всемирной известности, – мое отношение нисколько не изменилось, даже когда мы познакомились с ним поближе. В восьмидесятые годы, если память мне не изменяет, я принимал участие на одном из его кембриджских семинаров – и сразу же был поражен радушием и предупредительностью этого очень скромного, абсолютно нетщеславного человека. Из всех коллег, с которыми я встречался в жизни, только Ролз с его принципиально-непретенциозным поведением умел мгновенно вызывать какое-то особое к себе доверие, сохраняя при этом дистанцию. Меня Ролз, судя по всему, уже знал: потому, возможно, что мой сын Тильман, учась в Гарварде, посещал какой-то из его семинаров. Тексты Ролза я, конечно же, читал уже довольно давно. Поражаюсь, однако же, что «Теорию справедливости» – судя по многочисленным пометкам и записям из моего экземпляра с немецким переводом этой книги – я внимательно прочел не раньше 1975 года, и, скорее всего, по рекомендации Эрнста Тугендхата. Я в тот момент целиком был захвачен началами своей собственной теории дискурса, разработанной совместно с Карлом-Отто Апелем и в разговорах с «эрлангенцами», так что позиция Ролза, явно кантианская по происхождению и тщательно разработанная во всех деталях, меня, конечно же, восхитила. Годом ранее у нас под редакцией Манфреда Риделя выходил сборник «К реабилитации практической философии»: своего рода неокончательный обзор, посвященный широкому спектру подходов к этике, разработанных в Федеративной Республике и, по существу, не выходящих за рамки уже сложившихся традиций. Книга Ролза, с другой стороны, представляла собой поворотный пункт для этой дисциплины, причем как с точки зрения метода, так и по содержанию. Что касается метода, то ни одно морально-теоретическое исследование не могло – и до сих пор не может – даже сравниться с «Теорией справедливости» ни по части систематизма и, главное, гуссерлевского пафоса «исполнения», ни в том, что касается детализированного анализа – ясного, обширного и тщательного. А чтобы оценить значение этой книги в содержательной перспективе, нужно в первую очередь вспомнить, какая ситуация сложилась на тот момент в англосаксонской философии, задававшей тон по всему миру: эмпирический подход, предложенный аналитиками языка – наследниками Гоббса, Юма, Бентама и Джона Стюарта Милля, господствовал в практической философии повсеместно и практически не знал конкуренции. А с появлением великой книги Ролза все это господство как ветром сдуло. Вместо целерациональности, чувства, интереса и решения на передний план заступил отныне практический разум, обобщающий всякие интересы.
А лично Вам теория Ролза тоже показалась убедительной?
Что ж, я с самого начала рассматривал эту теорию с конструктивистской точки зрения, которую сам Ролз изложил в своих лекциях 1980 года, посвященных
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова