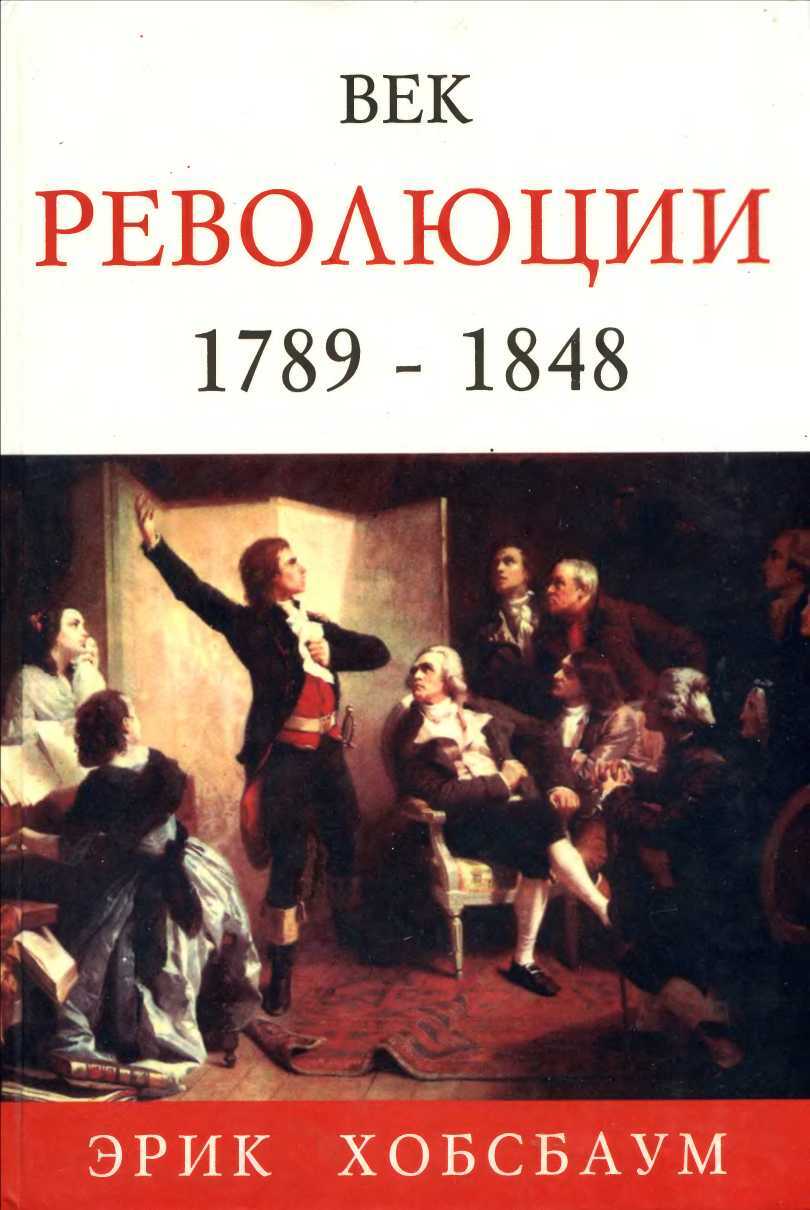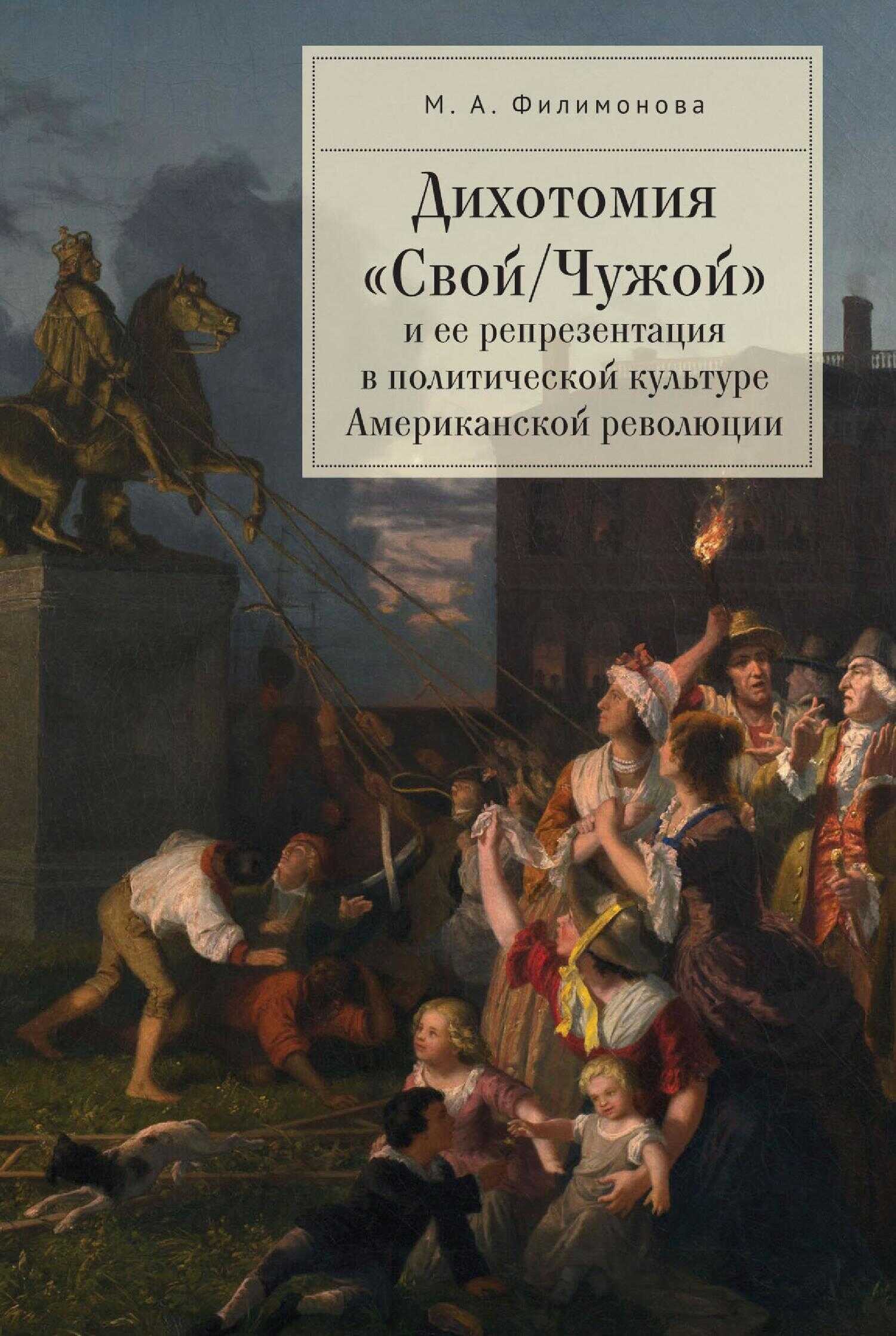Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа
Книгу Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вероятно, лучше всего сформулировать эти взаимосвязи следующим образом: экономическое развитие есть необходимое, но не достаточное условие революции; достаточными условиями являются явно политические и идеологические проблемы, которые решаются в ходе самих революционных событий, по мнению их участников. Экономическое развитие в современной истории происходит практически непрерывно, причём чаще в виде мирных постепенных изменений, а не насильственных переломов, революции же случаются очень редко. Отсюда следует, что протекание и исход революции обусловлены в первую очередь особой динамикой политики кризисных эпох и идеологической интоксикации и лишь во вторую — долго и медленно действующими силами социально-экономического развития. Одним словом, я утверждаю, что кризисная политика и идейное вдохновение — так же как принуждение, к которому они ведут, — имеют собственную логику, относительно независимую в своём действии от социально-экономической матрицы революционного события.
3. «Великая революция» также, в сущности, не означает перехода от господства одного класса к доминированию другого (например, опять-таки от «феодальной» гегемонии к «буржуазной»). Свои эпические масштабы «великие революции» принимают как раз потому, что это — «общеклассовое» дело, то есть события, в ходе которых все или почти все значимые социальные группы нации выступают против монархии либо одновременно, либо в очень быстрой последовательности друг за другом. Только подобное сплочение всего общества против священной власти монарха способно сокрушить бесконечно древнюю структуру «старого режима». Этот обобщение я вывел из работ Жоржа Лефевра, особенно «Пришествия Французской революции». Будучи марксистом, Лефевр задался целью показать, что Французская революция была классовой борьбой, в которой победа досталась буржуазии. Однако, детально анализируя классовый характер революции, он продемонстрировал, что на самом деле она представляла собой совокупность аристократической, буржуазной, народной и крестьянской революций. И эту модель легко применить к 1640, 1848 и 1905–1917 гг.
В качестве «контрольной пробы» можно отметить, что, когда против существующего режима поднимается только один класс, получается не «великая революция», а нечто иное. Если выступает аристократия, мы имеем Фронду. Если одно крестьянство — Жакерию или «пугачёвщину». Если же восстаёт только городская толпа, это выливается в «бунт лорда Гордона», в крайнем случае — в Парижскую коммуну. (Кажется, лишь буржуазия никогда не была настолько безрассудна, чтобы идти против власти в одиночку.) Ни в одном из такого рода случаев не происходила революция в смысле каких-либо фундаментальных конституционных или социальных перемен: все «одноклассовые» движения терпели неудачу и по большей части приводили к упрочению существующего строя и системы власти.
Парадокс XX века
После того как «старый режим» — первоначальная мишень европейской революции — прекратил существование, политическое насилие в Европе продолжало использоваться, менялись только его формы, характер и назначение. Мы видели, что Красный Октябрь превратился в ультралевую карикатуру на современный революционный миф, рождённый в 1789 г. Германия предоставила нам ультраправую карикатуру на него. Поскольку германское гражданское общество было зрелым, имущим и образованным, примат монархии сравнительно легко уступил место парламентскому суверенитету после поражения в 1918 г. Германскую Ноябрьскую революцию того же года, хотя формально она покончила с прусским «старым режимом», нельзя отнести в категорию «великих революций» — в этой роли её опередила (и тем подорвала её значение) неудачная революция 1848 г. Кроме того, поскольку германское гражданское общество не сумело в 1848 г. установить конституционную власть собственными силами, конституционное устройство, возникшее в 1918 г. «по умолчанию», оказалось чрезвычайно хрупким. Это обстоятельство облегчило наступление второй стадии германской революции XX в. — нацистской унификации (Gleichschaltung) 1930-х гг., которая искоренила последние остатки «старого режима» и «гомогенизировала» общество до уровня простого «народного сообщества» (Volksgemeinschaft). Таким образом, поражение в Первой мировой войне в итоге принесло плоды в виде «люмпен-бонапартизма» капрала Гитлера, возглавившего движение, которое в превратной интерпретации выражало национальные и социалистические идеи 1848 г.
Фашизм межвоенного периода — зеркальное отражение Красного Октября: «народ» как нация или сообщество по крови (Gemeinschaft) вместо народа как масс; иерархия наций с избранным народом на вершине вместо всеобщего человечества; абсолютизация иерархического порядка и борьбы вместо абсолютизации равенства и братства. И коммунизм, и общие принципы фашизма представляют собой извращённые вариации фундаментальных тем современной политики, впервые сформулированных в 1789 г.[311]
Существование общей теории коммунизма едва ли может оспариваться. Она заключается в том, что у власти должна стоять партия ленинского типа с задачей «строительства социализма», каковое требует уничтожения частной собственности и рынка в пользу институциональной диктатуры и командной экономики. Но на практике эта формула в различных случаях и в различные периоды даёт очень разные результаты. Внутри самой советской матрицы наблюдались значительные колебания в масштабах принуждения. Ленинский военный коммунизм 1918–1921 гг. сменился полурыночным нэпом 1921–1929 гг., с начала 1930-х гг. происходила сталинская «революция сверху» с Большим террором в конце десятилетия, далее последовали тяжёлое военное время, имперский послевоенный период. Наконец, эпохи Хрущёва и Брежнева отличаются от сталинизма ослаблением революционной энергии и сильным снижением уровня террора.
За пределами российской матрицы вариации ленинской формулы ещё более примечательны. Послевоенная советская «внешняя империя» — страны Восточной Европы — существенно отличалась от «внутренней империи», то есть самого СССР. В Восточной Европе (за исключением Югославии, которая вскоре покинула советскую орбиту) не было настоящих революций, там происходил многоликий процесс завоевания и поглощения. Например, едва ли можно сравнивать послевоенную Польшу, где крестьяне никогда не знали коллективизации, с Россией при Сталине или даже с Румынией при Николае Чаушеску (по сути, уже не входившей во «внешнюю империю»). И хотя там везде активно действовала политическая полиция, для настоящих «гулагов» просто не хватало места.
Если перейти от зоны советского влияния в Европе к коммунизму в Восточной Азии, мы обнаружим ещё более сильные расхождения. Те режимы не только не зависели от Москвы институционально, но и друг от друга отличались. Социализм Ким Ир Сена означал герметично закрытую семейную диктатуру, не менее сюрреалистичную, чем режим Чаушеску; правда,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
-
 Юрий22 февраль 18:40
телеграм автора: t.me/main_yuri...
Юрий А. - Фестиваль
Юрий22 февраль 18:40
телеграм автора: t.me/main_yuri...
Юрий А. - Фестиваль