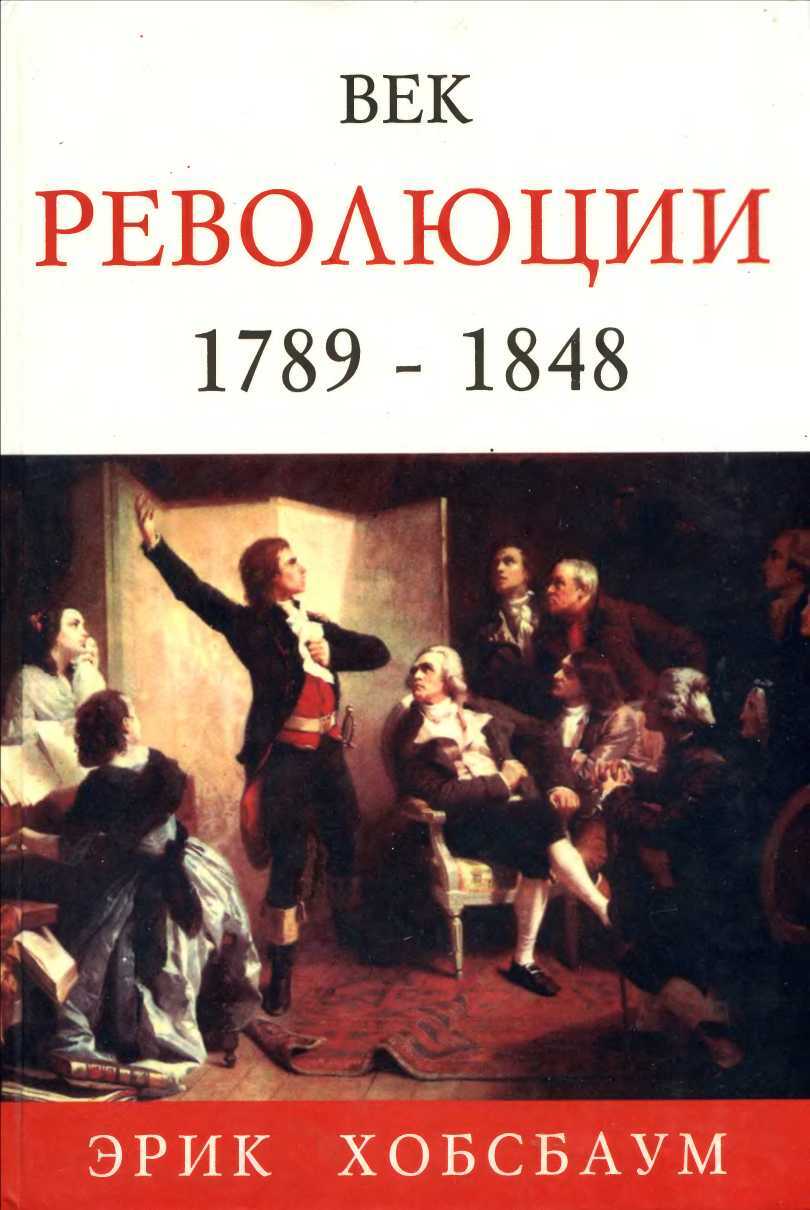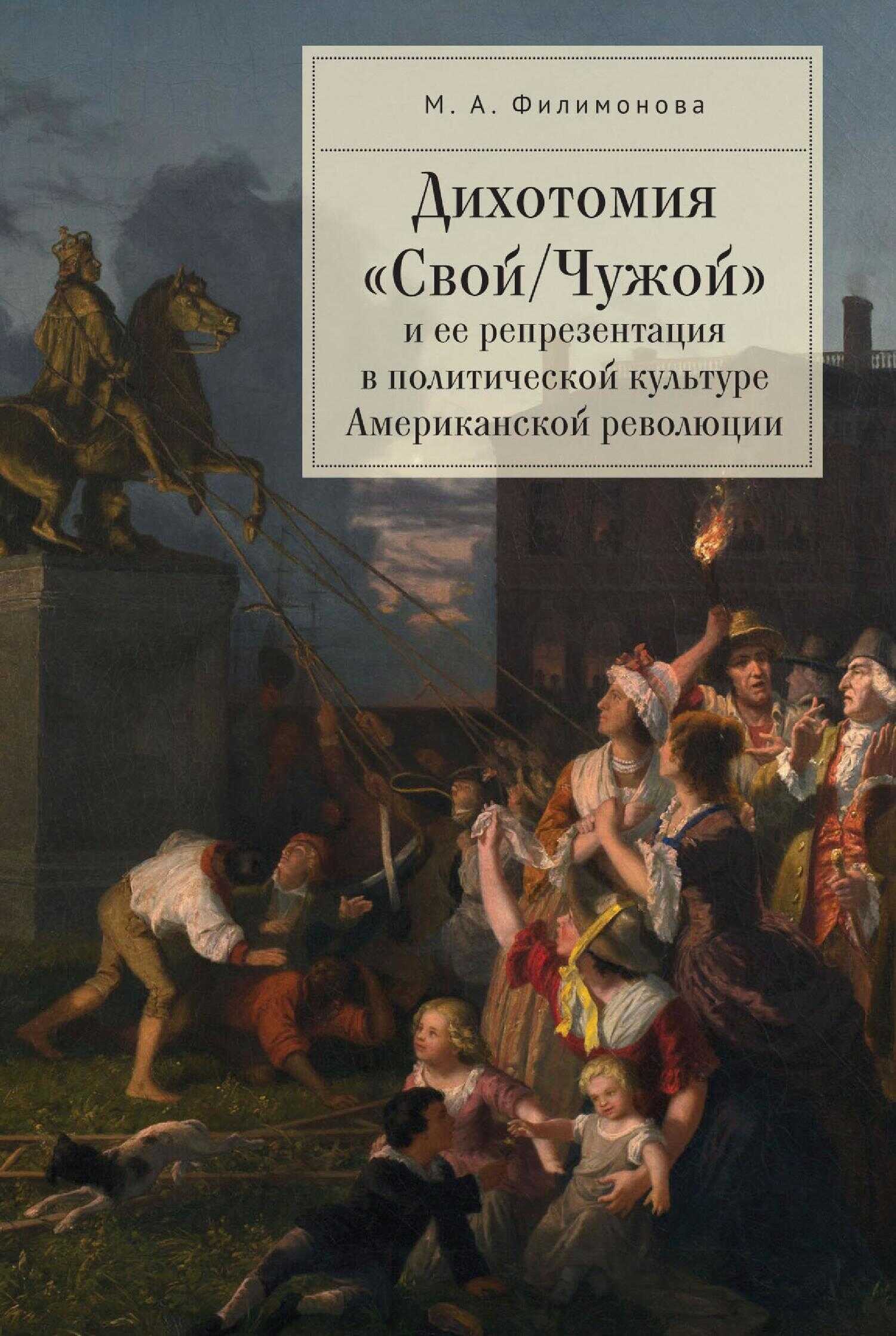Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа
Книгу Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На этом обстоятельстве заострил внимание такой авторитетный специалист по античной истории, как сэр Мозес Финли. Будучи марксистом, он объясняет его тем, что в древности «не было революционной передачи власти новому классу (или классам), поскольку не было новых классов». Хотя классовой борьбы и в Греции, и в Риме хватало, там никогда не происходило «подлинной смены классового базиса государства». Можно соглашаться или не соглашаться с таким «классовым» объяснением, однако не поспоришь с тем, что «античные утопии, как правило, статичны, аскетичны и иерархичны — не того сорта, чтобы пробуждать народный энтузиазм во имя прогресса»[346]. Это резко отличается не только от современных представлений, но и от средневекового телеологического понимания судьбы человечества (хотя в средневековом обществе тоже не появлялось новых классов).
Тем не менее вполне доказанная разница между античным и более поздним европейским менталитетом не мешала видным историкам, от Теодора Моммзена в XIX в. до Рональда Сайма в XX в., много писать о «римской революции», имея в виду период от Гракхов до Цезаря, то есть от поздней республики до империи[347]. Но факт остаётся фактом: этот важнейший переход никогда не рассматривался как переход от порочного старого мира к добродетельному новому. Многие римляне на самом деле полагали обратное: деспотическая империя представлялась им великим упадком по сравнению со свободной республикой. И такое суждение естественным образом вписывается в древнее представление об истории как циклическом, а не линейном и не прогрессивном процессе.
Та же циклическая модель характерна для Китая до его контактов с Европой. По словам Джозефа Нидема, также авторитетного специалиста в своей области, в Китае постоянно происходила смена династий по одному и тому же образцу[348]. Династия управляет страной, которую полагает мировой империей. Правление это — автократическое, опирающееся на класс мандаринов, выходцев из аристократии (или бюрократии евнухов). В конце концов, система теряет доверие народа; начинаются крестьянские восстания, зачастую под руководством мандаринов-перебежчиков, или же возглавляемые вожаками, которых выдвигали сами крестьяне. В соответствии с национальной идеологией подобные нарушения свидетельствуют, что династия утратила «Небесный мандат». В результате следует её падение, и на её руинах приходит к власти новая династия, чтобы править в тех же государственных формах, что и предшественники. Если угодно, можно назвать такие циклы «революциями», однако особого смысла в этом нет, поскольку они не имеют ничего общего с хрестоматийным европейским сценарием 1789–1799 гг. Бесконечный круговорот китайских переворотов представляет собой отдельную, совершенно особенную модель.
Нужно отметить отсутствие правдоподобных аналогов современной европейской модели революции и в Индии. Конечно, несколько волн мусульманских завоеваний с XII по XVI в. вызвали там серьёзные перемены: исламизацию значительной части населения субконтинента наряду с нивелированием индусской кастовой системы.
Однако подобное нивелирование не слишком напоминает позднейшую европейскую демократизацию. Не находим мы аналогов ей и в сердце ислама — на Ближнем и Среднем Востоке. Разумеется, переход халифата из рук дамасских Омейядов в руки багдадских Аббасидов (который действительно называют аббасидской революцией) представлял собой крупный сдвиг, смену власти арабских суннитских сил властью персов-шиитов[349]. Тем не менее, хотя в данном изменении присутствовал элемент милленаризма, наблюдавшийся и в европейских революциях, этого отнюдь недостаточно для того, чтобы его сравнение с событиями во Франции после 1789 г. принесло какую-нибудь пользу.
После исключения из рассмотрения классической Античности и великих империй Востока тема революции сужается до приемлемых пределов. Только работая с относительно ограниченным числом примеров, можно прийти к полезным и поддающимся проверке обобщениям. Подытожим параметры, которые нам удалось установить с помощью выбранного метода в первом приближении:
а) До XX в. понятие революции имело отношение только к европейскому культурному пространству, включающему обе Америки. Это было в основном политическое понятие.
б) Понятие и феномен революции получили распространение в остальной части мира лишь в XX в., когда другие культуры стали испытывать на себе европейское влияние. Поэтому большинство переворотов, которые принято называть революциями, произошли именно в XX в.
в) Революции XX в. по своему происхождению и природе считаются социальными, а не политическими.
г) Поэтому почти все революции XX в. были социалистическими. А социализм их относился преимущественно к его коммунистической, марксистско-ленинской разновидности.
д) «Теоретизированием» по поводу этих революций занимались главным образом социологи и политологи, а не историки. Поскольку XX в. являлся революционным веком par excellence, неудивительно, что революция как таковая стала предметом исследования именно в этом столетии.
В социальной науке XX в. этот предмет занимал столько места, что один специалист предложил присвоить ему статус отдельной дисциплины под названием «стасиология» (от греческого «stasis»)[350]. Мы исходим здесь из того, что таковая действительно существует. Приложение II посвящено её истории в XX в. Акцент сделан на историю, поскольку анализ революции как явления, так же как и само понятие революции, эволюционировал с течением времени.
В естественных науках, говоря относительно и со всем уважением к принципу Гейзенберга, наблюдатель находится вне наблюдаемого объекта. И хотя у природного мира есть своя история, он меняется столь медленно, что наблюдатель работает, по сути, без учёта исторического аспекта. В социальных науках наблюдатель — неотъемлемая часть социального процесса, который он наблюдает. Кроме того, и процесс, и наблюдения непрерывно изменяются во времени. Посему «стасиология», да и любые объяснения, предлагаемые социальной наукой, сами являются эволюционирующими продуктами истории. Они культурно специфичны. Следовательно, судьбы «стасиологии» будут рассматриваться в этой специфично-временной перспективе.
Приложение II. Высокая социальная наука и «стасиология»
Вся история — современная история.
Бенедетто Кроче
История — это политика, опрокинутая в прошлое.
М.Н. Покровский
История — это настоящий роман.
Поль Вейн
Какие же результаты принесли насчитывающие уже несколько десятилетий изыскания социальной науки в области исследования революции? Представлять здесь подробно всю их обширную продукцию нет ни возможности, ни необходимости. Достаточно выделить основные линии развития нашей темы, приведя примеры различных точек зрения и уделив внимание нескольким наиболее значительным трудам, отмечающим главные этапы дисциплины, которую, воспользовавшись лексиконом Аристотеля, назвали «стасиологией»[351].
Систематизация сравнения
Работа, которая знаменует переход от традиционной истории к социологии (и, пожалуй, наиболее близка
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
-
 Юрий22 февраль 18:40
телеграм автора: t.me/main_yuri...
Юрий А. - Фестиваль
Юрий22 февраль 18:40
телеграм автора: t.me/main_yuri...
Юрий А. - Фестиваль