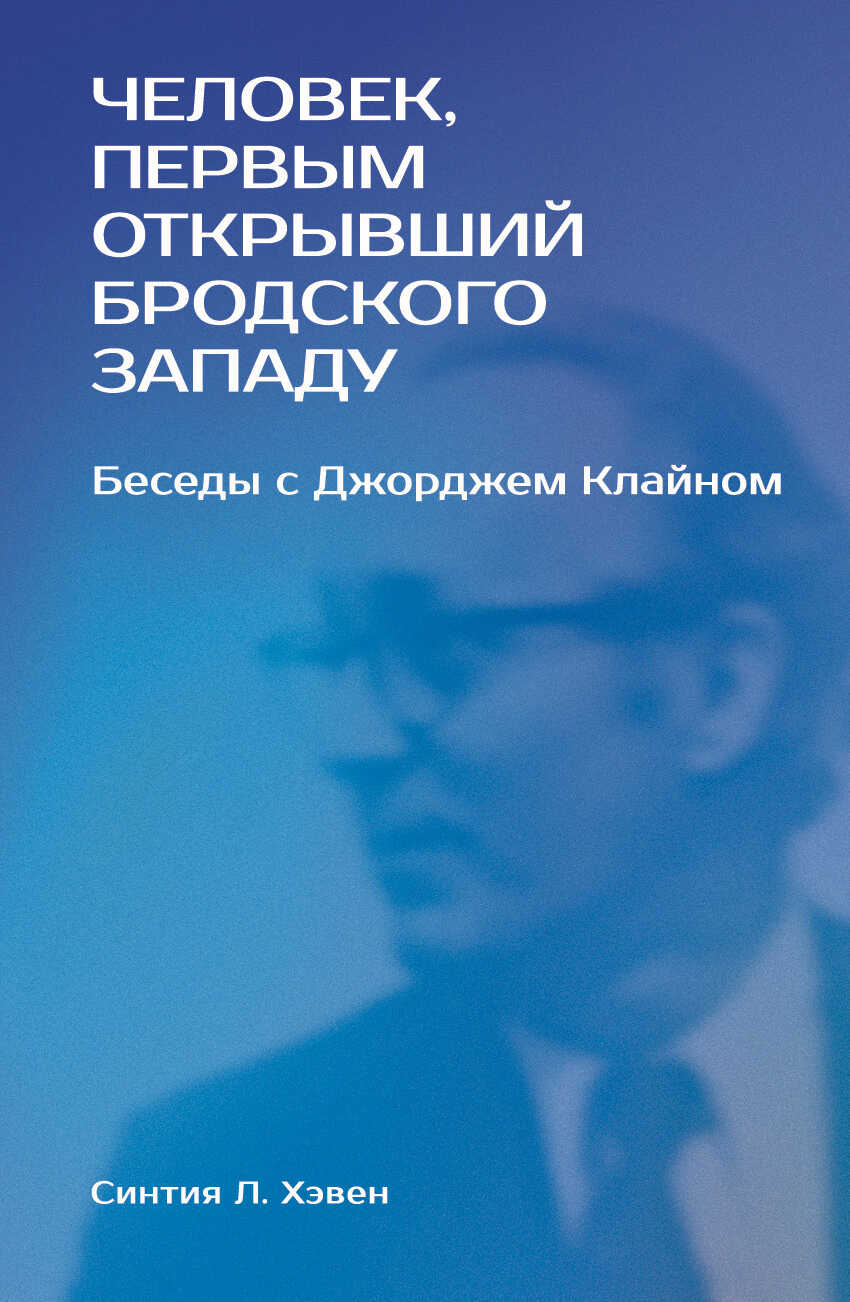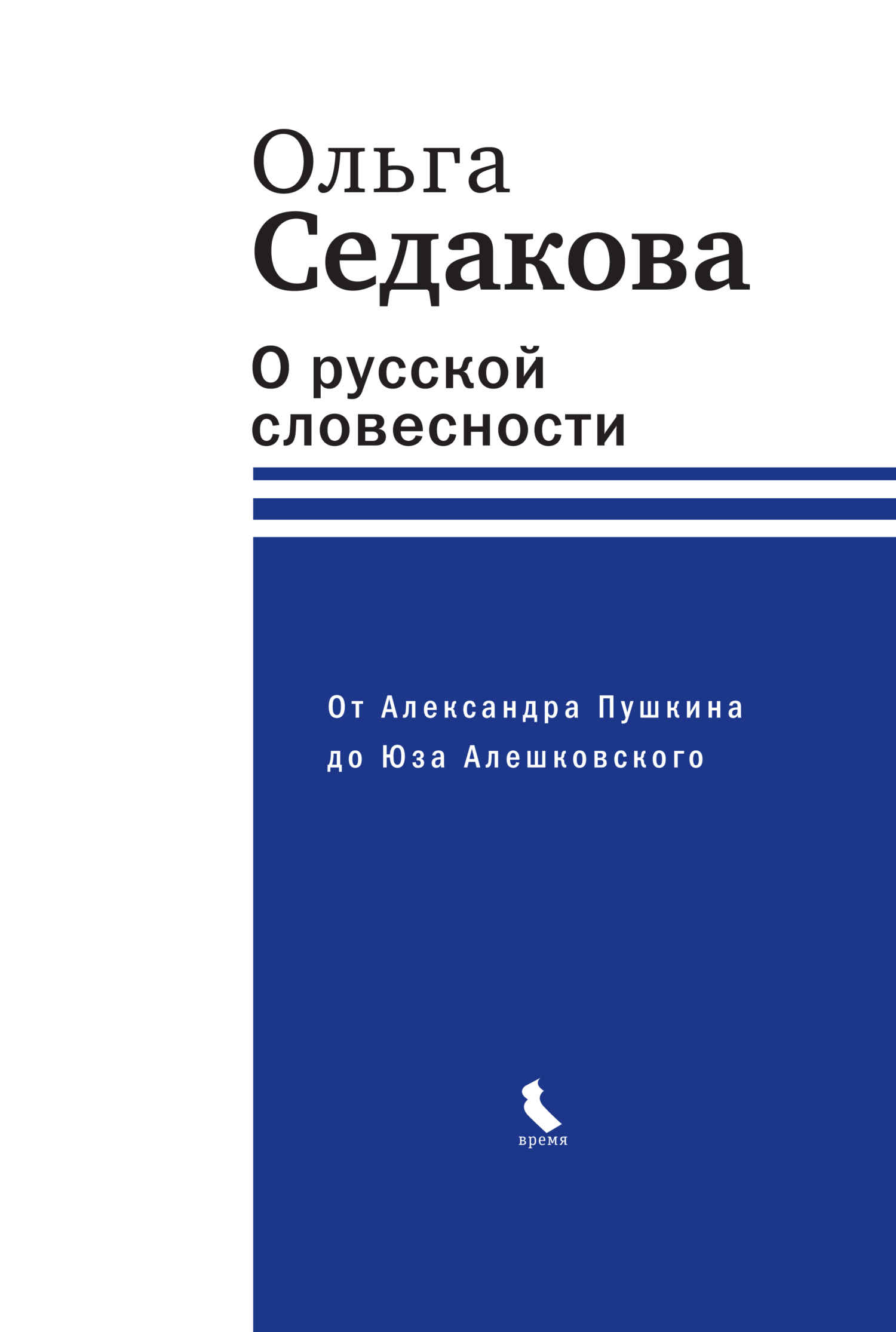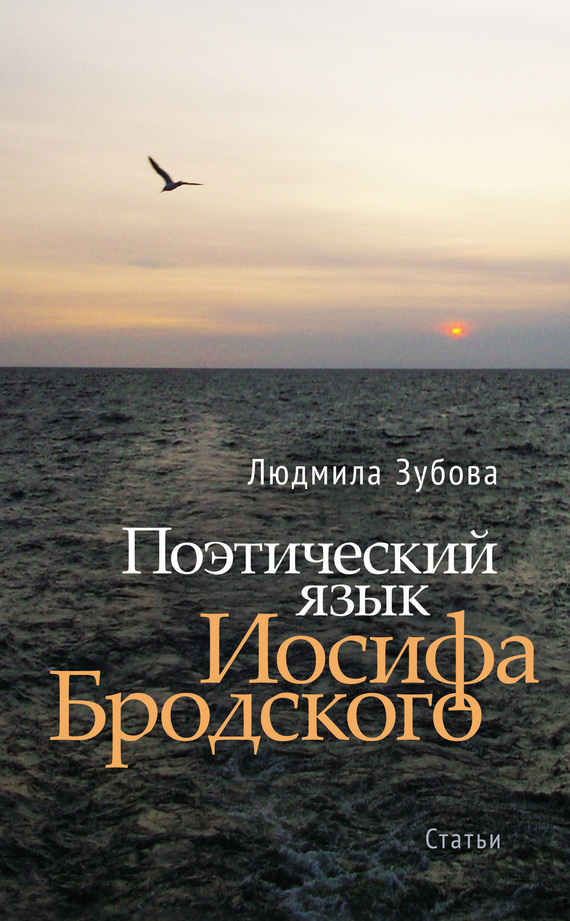«…Ради речи родной, словесности…» О поэтике Иосифа Бродского - Андрей Михайлович Ранчин
Книгу «…Ради речи родной, словесности…» О поэтике Иосифа Бродского - Андрей Михайлович Ранчин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Петербург в зрелой поэзии Бродского может вообще заменяться пустынным пространством Невской дельты. Так происходит в стихотворении «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» из цикла «Часть речи» (1975–1976). В этом тексте словно изображается местность до основания города и появляются аллюзии на вступление к пушкинскому «Медному всаднику», где говорится о еще пустынных «мшистых, топких берегах»: «болота» и «серые цинковые волны» напоминают о «пустынных волнах» и «топи блат» из пушкинской «петербургской повести». Причем креативная, стимулирующая творчество роль приписана именно этому природному пространству, а не «граду Петрову»:
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда – все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос <…>
(III; 131)
Бродский-поэт здесь не сходится с Бродским-прозаиком – в эссе «Путеводитель по переименованному городу» креативным, порождающим литературное творчество свойством наделен именно Петербург, его архитектура:
Как это нередко случается с человеком перед зеркалом, город начал впадать в зависимость от своего объемного отражения в литературе. Не то чтобы он недостаточно совершенствовался (хотя, конечно, недостаточно!), но с врожденной нервозностью нарциссиста город впивался все более и более пристально в зеркало, проносимое русскими писателями, – перефразируя Стендаля, – сквозь улицы, дворы и убогие квартиры горожан. Порой отражаемый пытался поправить или просто разбить отражение, что сделать было проще простого, поскольку почти все авторы тут же и жили, в городе. К середине девятнадцатого столетия отражаемый и отражение сливаются воедино: русская литература сравнялась с действительностью до такой степени, что, когда теперь думаешь о Санкт-Петербурге, невозможно отличить выдуманное от доподлинно существовавшего
(«Путеводитель по переименованному городу» [V; 61]).
Обозначение автором стихотворения «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» местности, географического пространства, в котором находится Петербург-Ленинград, но не-упоминание города, словно объявляемого несуществующим, абсолютно ново, беспрецедентно, оно никак не соотносится с петербургской эсхатологией, составляющей один из структурных элементов Петербургского текста. В эсхатологическом мифе описывается или предсказывается гибель города – как возмездие за надменность, гордыню, как наказание за вызов природе и, тем самым, Богу, брошенный его державным основателем:
Это город, созданный вопреки Природе и находящийся в борьбе с нею, что дает двойную возможность интерпретации города: как победы разума над стихиями, с одной стороны, и как извращенности естественного порядка, с другой. Вокруг имени такого города будут концентрироваться эсхатологические мифы, предсказания гибели, идея обреченности и торжества стихий будет неотделима от этого цикла городской мифологии. Как правило, это потоп, погружение на дно моря[215].
Так, в стихотворении Михаила Дмитриева «Подводный город» (1847) Петербург уничтожен наводнением в наказание и за вызов Творцу, и за бессердечие этого «нового Вавилона»:
Молча на воду спускает
Лодку ветхую рыбак,
Мальчик сети расстилает,
Глядя молча в дальный мрак!
И задумался он, глядя,
И взяла его тоска:
«Что так море стонет, дядя?» —
Он спросил у рыбака.
<…>
«Тут был город всем привольный
И над всеми господин,
Нынче шпиль от колокольни
Виден из моря один.
Город, слышно, был богатый
И нарядный, как жених;
Да себе копил он злато,
А с сумой пускал других!
Богатырь его построил;
Топь костьми он забутил,
Только с богом как ни спорил,
Бог его перемудрил!
В наше море в стары годы,
Говорят, текла река,
И сперла гранитом воды
Богатырская рука!
Но подула буря с моря,
И назад пошла их рать,
Волн морских не переспоря.
Человеку вымещать!»
<…>
Мальчик слушал, робко глядя,
Страшно делалось ему:
«А какое ж имя, дядя,
Было городу тому?»
«Имя было? Да чужое,
Позабытое давно,
Оттого что не родное —
И не памятно оно»[216].
Финский залив у Дмитриева после гибели города напоминает «пустынные волны», которые созерцает царь-демиург, замышляющий основание города – «полночных стран красы и дива» в поэме Пушкина, а старик-рыбак – пушкинского «финского рыболова, печального пасынка природы». Но в «Подводном городе» говорится именно о гибели Петербурга, о его погребении под толщей морских вод, а отнюдь не о не-существовании, не-бытии.
Более сложная картина нарисована Достоевским в романе «Подросток». Петербург исчезает, словно никогда и не был, развеивается, как туманный морок, как наваждение, внушенное тяжелыми испарениями финских болот:
Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: «Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится,– и все вдруг исчезнет»[217].
Но в романе Достоевского после воображаемого исчезновения города сохраняется след его былого существования – «бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне», а само исчезновение – это вариация эсхатологического мотива, почти обязательного для Петербургского текста; в стихотворении Бродского город просто остается «незамеченным», словно никогда и не существовал. Ухо слышит звуки, которые можно приписать городскому пространству: «хлопанье полотна, ставень», «чайник, / кипящий на керосинке». Но самого этого пространства нет – оно не существует, если не поименовано в тексте. Реальность, бытие города словно не признаются, игнорируются. «Заложенная в идее обреченного города вечная борьба стихии и культуры реализуется в петербургском мифе как антитеза воды и камня» (Ю. М. Лотман[218]), в стихотворении Бродского эта антитеза демонстративно отброшена: неназванный Петербург –
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 TatSvel219 июль 19:25
Незабываемая Феломена, очень интересный персонаж, прочитала с удовольствием! Автор-молодец!!!...
Пограничье - Надежда Храмушина
TatSvel219 июль 19:25
Незабываемая Феломена, очень интересный персонаж, прочитала с удовольствием! Автор-молодец!!!...
Пограничье - Надежда Храмушина
-
 Гость Наталья17 июль 12:42
Сюжет увлекательный и затейный,читается легко,но кто убийца,сразу было понятно....
Дорога к Тайнику. Часть 1 - Мария Владимировна Карташева
Гость Наталья17 июль 12:42
Сюжет увлекательный и затейный,читается легко,но кто убийца,сразу было понятно....
Дорога к Тайнику. Часть 1 - Мария Владимировна Карташева
-
 Гость Дарья16 июль 23:19
Отличная книга. Без сцен 18+, что приятно. Легкий и приятный сюжет. Благоразумная ГГ, терпеливый и сдержанный ГГ. Прочла с...
Королева драконов - Анна Минаева
Гость Дарья16 июль 23:19
Отличная книга. Без сцен 18+, что приятно. Легкий и приятный сюжет. Благоразумная ГГ, терпеливый и сдержанный ГГ. Прочла с...
Королева драконов - Анна Минаева