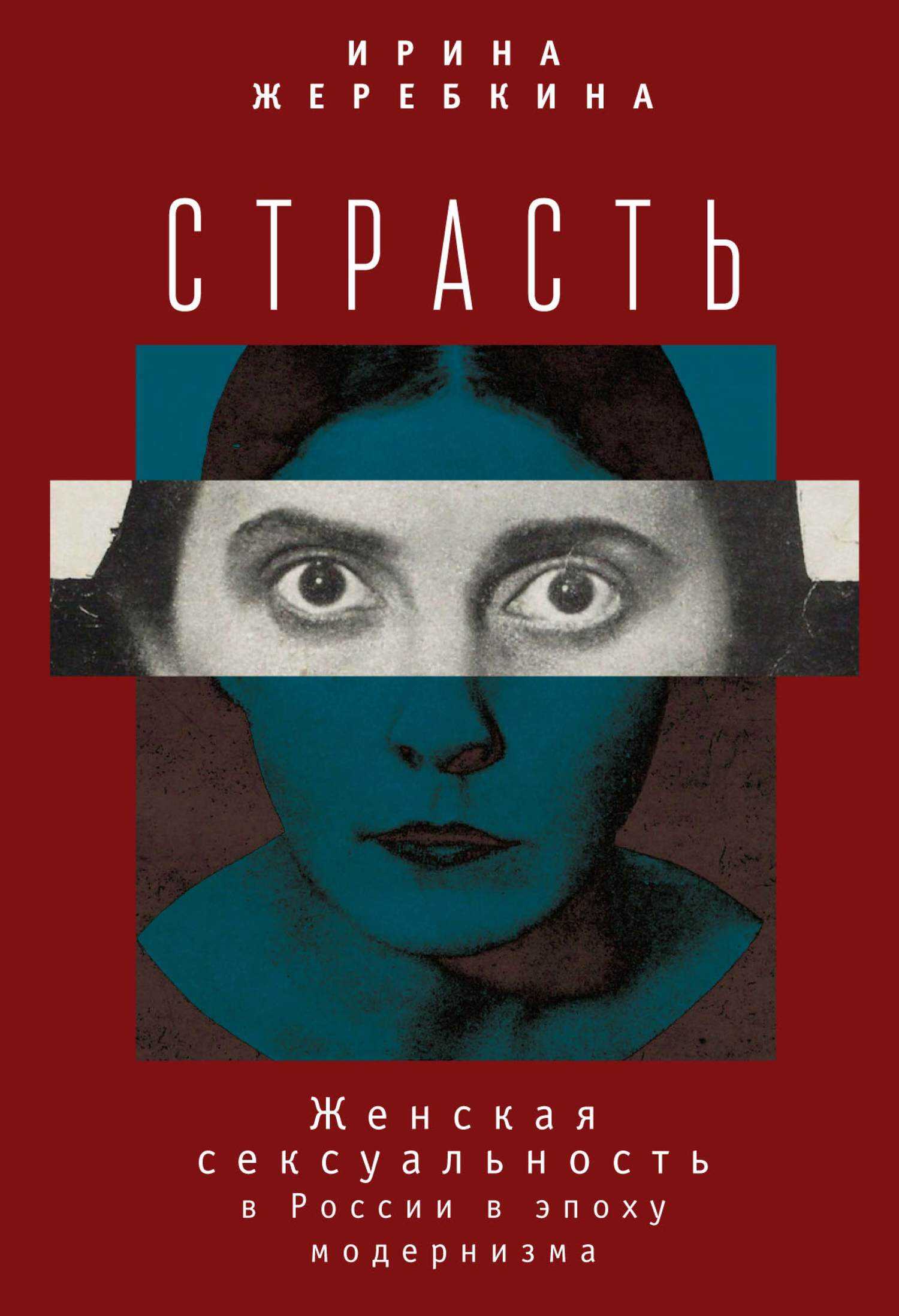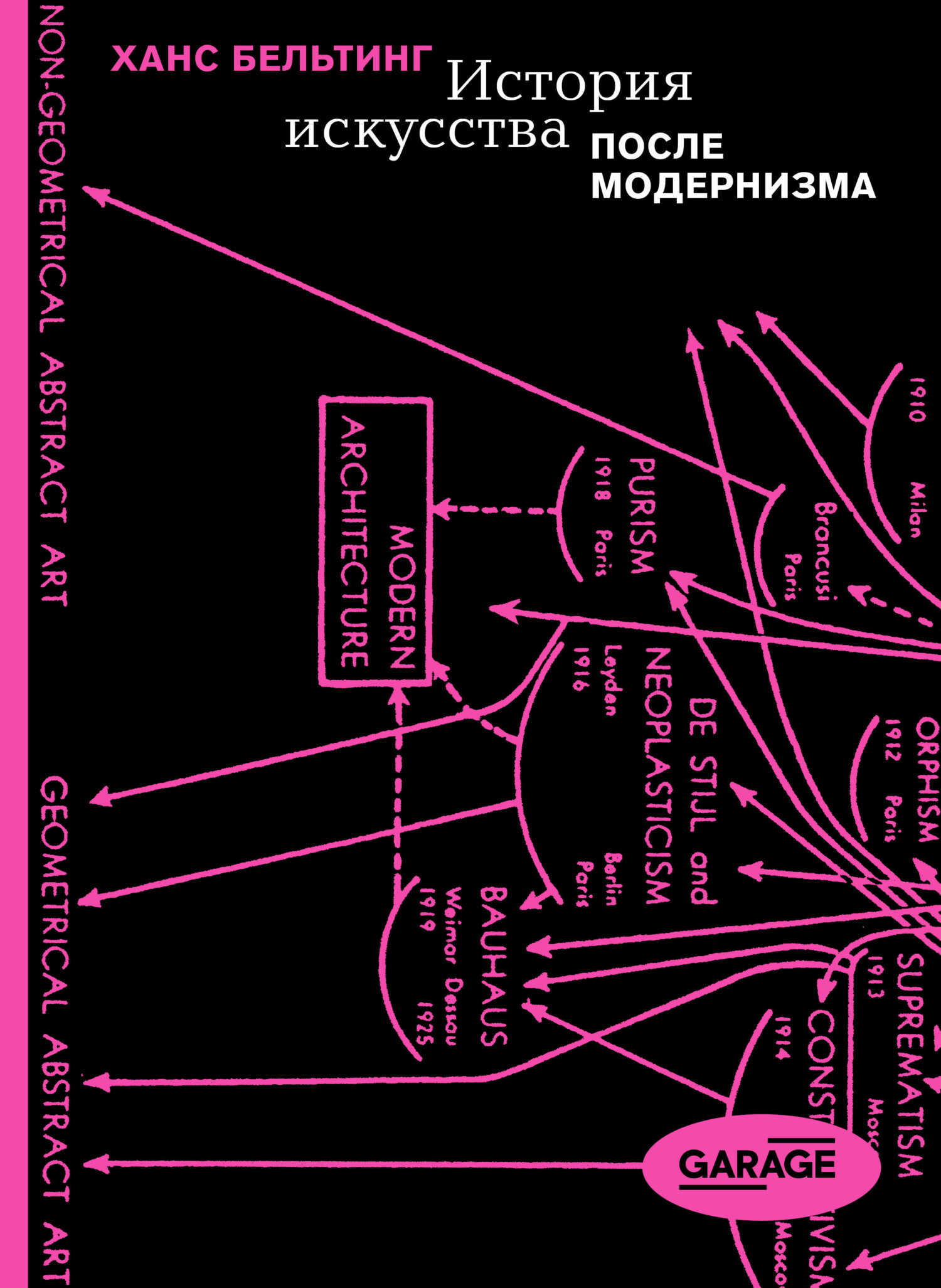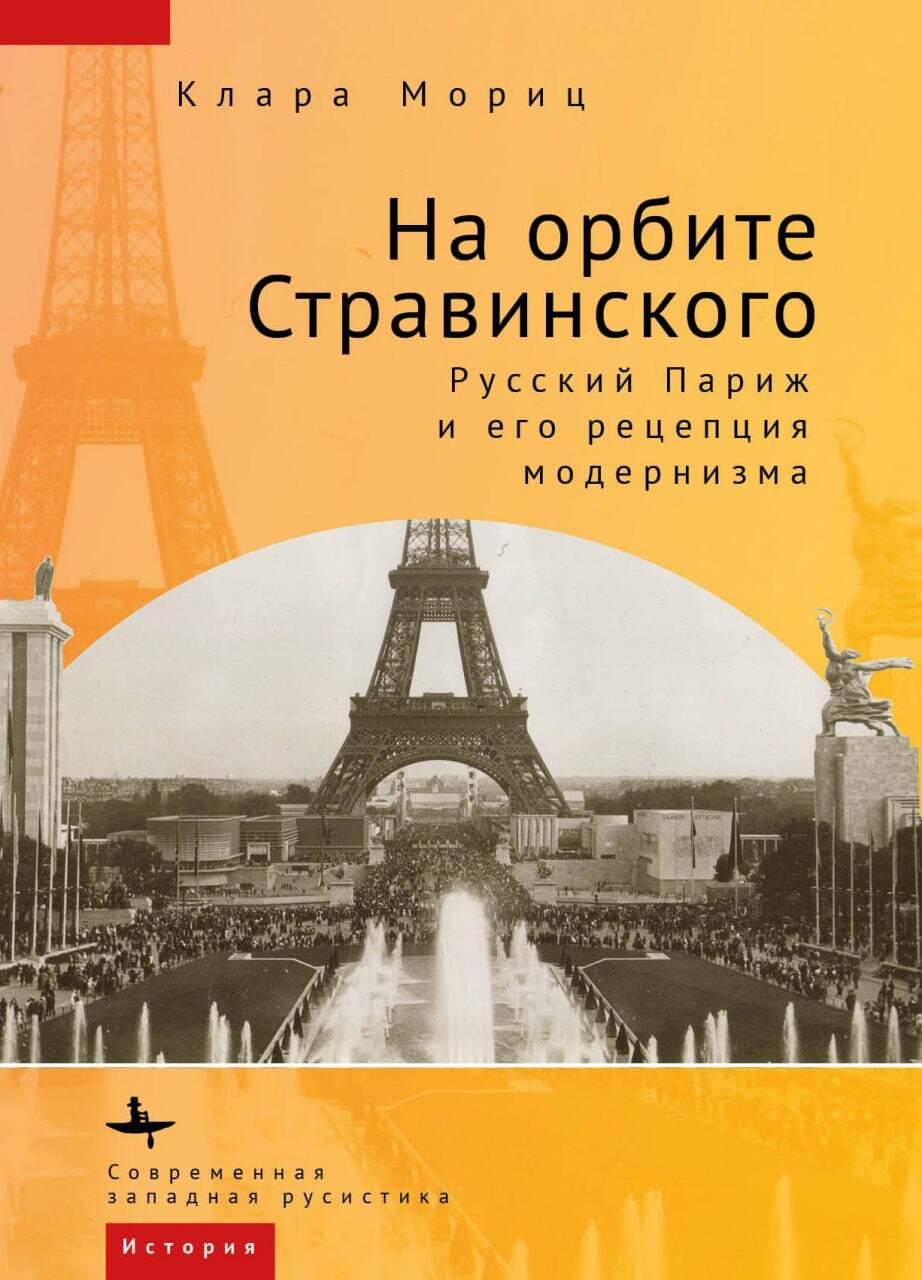Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В «Счастливом домике» античные лары как хранители домашнего очага находят свой национальный аналог: заглавие книги заимствовано из стихотворения Пушкина «Домовому» (1819) с его призывом «Счастливый домик охрани!». Таким образом, поэзия Ходасевича движется в русле общих тенденций зрелого модернизма, в частности национально-исторической перекодировки и конкретизации античной и религиозно-философской образности147. Существенно, однако, обратить внимание на различие в такой национализации между соловьевцами и Ходасевичем, которое на частном примере определяет их общее идеологическое расхождение. Национальная перекодировка античных и религиозно-мистических мифологем соловьевцами осуществлялась на базе их мистико-гностических и неославянофильских представлений: русский Орфей совершает катабасис в падший мир современной России, чтобы спасти ее «истинную» сущность/душу, обычно персонифицированную в центральном женском персонаже. Для Ходасевича и Мандельштама разнообразное соединение русского и античного материала вписывалось в неоклассицистическую идею translatio studii, где имперская, петровско-пушкинская Россия становилась преемницей античного наследия. И современный поэт-Орфей выступал в роли культурного героя или культуртрегера, призванного перенести классическое, синкретичное антично-пушкинское наследие на современную почву. Таким образом, можно сказать, что орфический миф включился в модернистскую модификацию противостояния славянофилов и западников.
У Ходасевича название второго раздела, «Лары», в первую очередь соотносится с включенным в него циклом «Мыши». С этого времени мышино-подпольная образность войдет в индивидуальный поэтический миф Ходасевича. В ней переосмыслялась мышиная образность раннего модернизма, связанная с дионисийско-аполлонической мифологией. Характерна в этом отношении статья М. Волошина «Аполлон и мышь» (1911) о хтонической функции мыши. В раннем модернизме мифологизация мыши проходила также по линии гностицизма и декадентства как одно из проявлений «падшего мира»148.
Ходасевич по-своему реабилитирует мышей (лишает пейоративного значения), вводя их в ключевое для зрелого модернизма поле размышлений о месте и задачах современного творчества. «Благородная» литературная отсылка к Пушкину («Стихи, сочиненные во время бессонницы…»: «Жизни мышья беготня…», 1830) позволила включить их в построение своей «новой» поэтической идентичности. Мыши стали олицетворять ларов, домашних богов, новые посюсторонние ценности «Счастливого домика»149. Мыши были также частью домашней мифологии семьи Ходасевичей. Ходасевич называл жену Мышью. Отсюда мыши приобретают интимное, домашнее значение – в противостоянии абстракциям «символизма». Кроме того, мыши как автоописательный образ зрелого модернизма наследуют лиминальной природе раковины, несущей схожую автоописательную функцию для раннего модернизма. Но мыши знаменуют онтологическое изменение характера «миров», границы которых они постоянно пересекают, воплощая трансгрессивную сущность поэтического слова. Теперь это не натурфилософские стихии (море, суша, ночь) и не мир мифологической преисподней, но автобиографически конкретизированный мир современного поэта, аккумулирующий в себе литературно-исторические и мифологические ассоциации.
Одновременно мышиное подполье определяет ценностный ориентир на эстетическую и бытийную автономность. Поэтическим манифестом этой новой программы станет стихотворение «Подпольной жизни созерцатель…» (27 мая 1914):
Подпольной жизни созерцатель
И Божьей милостью поэт, —
Еще помедлю в этом мире
На много долгих зим и лет.
Неуловимо, неприметно,
Таясь и уходя во тьму,
Все страхи, страсти и соблазны
На плечи слабые приму.
Стиху простому, рифме скудной
Я вверю тайный трепет тот,
Что подымает шерстку мыши
И сердце маленькое жжет
[Ходасевич 1996–1997, 1: 325].
Строка «что подымает шерстку мыши» перифразирует идиоматическое выражение «мурашки по коже». Строфа передает психофизический эффект шока, который Ходасевич назовет основным побудителем своей зрелой поэзии в более позднем поэтическом манифесте «Весенний лепет не разнежит…» (1923): «И в этой жизни мне дороже / Всех гармонических красот – / Дрожь, побежавшая по коже, / Иль ужаса холодный пот» [Там же: 250]. «Шок» – ключевой параметр модернистского искусства – представлен в «Подпольной жизни созерцателе…» не при помощи «бездн» и «ужасов» раннего модернизма или «радикального» разрушения референциальности и традиционных поэтических средств, но своеобразными минус-приемами: анимализацией его переживания, сниженной, бытовой референциальностью, что усиливает драматическую достоверность, и декларируемой неброской «антипоэтичностью» («простой», «скудный», пропущенные рифмы в нечетных строках)150. Это стихотворение было написано за несколько месяцев до начала войны, уже после выхода в свет «Счастливого домика», и не вошло ни в один из сборников Ходасевича. Тем не менее он использовал две последние строки, имевшие для него, как мы видели, особый смысл, в тоже не опубликованном стихотворении 1921 года «Я знаю все людские тайны…»: «И вдохновительней и выше – / Почуять ужас вечный тот, / Что подымает шерстку мыши / И сердце маленькое жжет» [Ходасевич 2009–2010, 1: 298].
С началом Первой мировой войны на место противостояния «большим» темам раннего модернизма пришло противостояние «большой» теме политики, обозначая независимую позицию Ходасевича по отношению к набирающей обороты мобилизационной риторике. Но датированное 17 сентября 1914 года стихотворение «Из мышиных стихов» с его «подпольным» пацифизмом могло показаться уже анахроничным к моменту публикации в декабрьском номере «Аполлона» (1914, № 10). С одной стороны, Ходасевич с мягкой иронией воспроизводит патриотические топосы начала войны: «День и ночь под звон машинной стали, / Бельгия, как мышь, трудилась ты, – / И тебя, подруга, растерзали / Швабские усатые коты…» [Ходасевич 1996–1997, 1: 299]. С другой стороны, он пытается сохранить свое понимание творческой и экзистенциальной независимости в драматически изменившейся исторической ситуации:
У людей война. Но к нам в подполье
Не дойдет ее кровавый шум.
В нашем круге – вечно богомолье,
В нашем мире – тихое раздолье
Благодатных и смиренных дум.
<…>
Ах, у вас война! Взметает порох
Яростный и смертоносный газ,
А в подпольных, потаенных норах
Горький трепет, богомольный шорох
И свеча, зажженная за вас [Там же].
Противительные конструкции, указывающие даже на антропологическую разницу между «людьми» и «мышами», местоимение «вас» – все указывает на проводимую демаркационную линию между происходящей во внешнем мире войной и собственным подпольем.
В условиях стремительно нарастающей идеологической мобилизации такое самоотстранение могло показаться кому-то неуместным, а кому-то утверждением собственной независимой позиции. Но этот неожиданный тон в начале войны запомнился современникам. В 1931 году Г. Иванов публикует под псевдонимом А. Кондратьев пасквиль «К юбилею В. Ф. Ходасевича. Привет читателя»,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
-
 Гость Татьяна06 ноябрь 21:07
Книга не понравилась. Есть что- то напыщенное, неестественное. ...
Ищи меня в России. Дневник «восточной рабыни» в немецком плену. 1944–1945 - Вера Павловна Фролова
Гость Татьяна06 ноябрь 21:07
Книга не понравилась. Есть что- то напыщенное, неестественное. ...
Ищи меня в России. Дневник «восточной рабыни» в немецком плену. 1944–1945 - Вера Павловна Фролова
-
 Гость Гость06 ноябрь 16:21
Очень увлекательный сюжет. Хороший слог. Переводчику этого автора отдельное спасибо. Прочитала чуть ли ни в один присест....
Невинная - Дэвид Бальдаччи
Гость Гость06 ноябрь 16:21
Очень увлекательный сюжет. Хороший слог. Переводчику этого автора отдельное спасибо. Прочитала чуть ли ни в один присест....
Невинная - Дэвид Бальдаччи