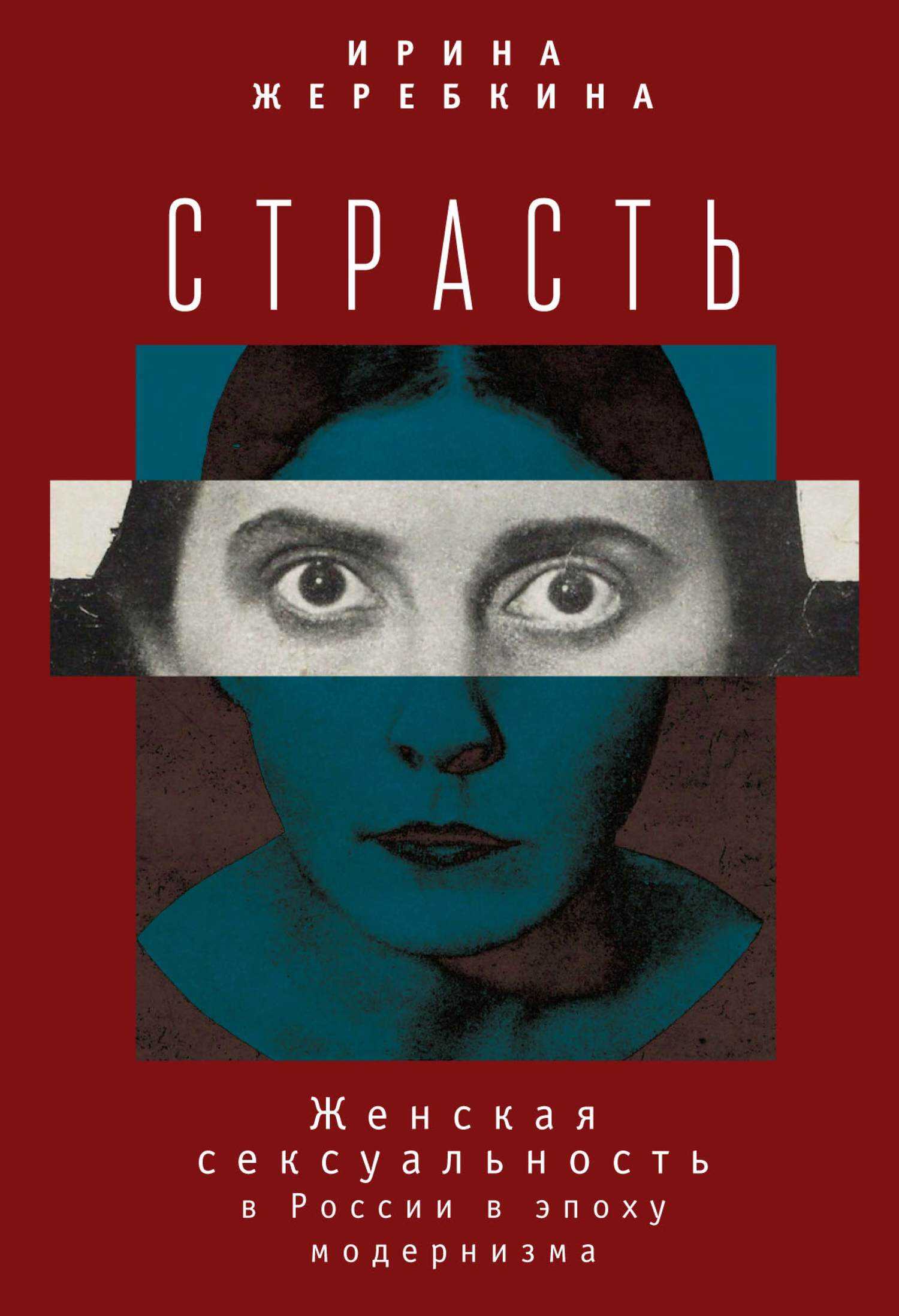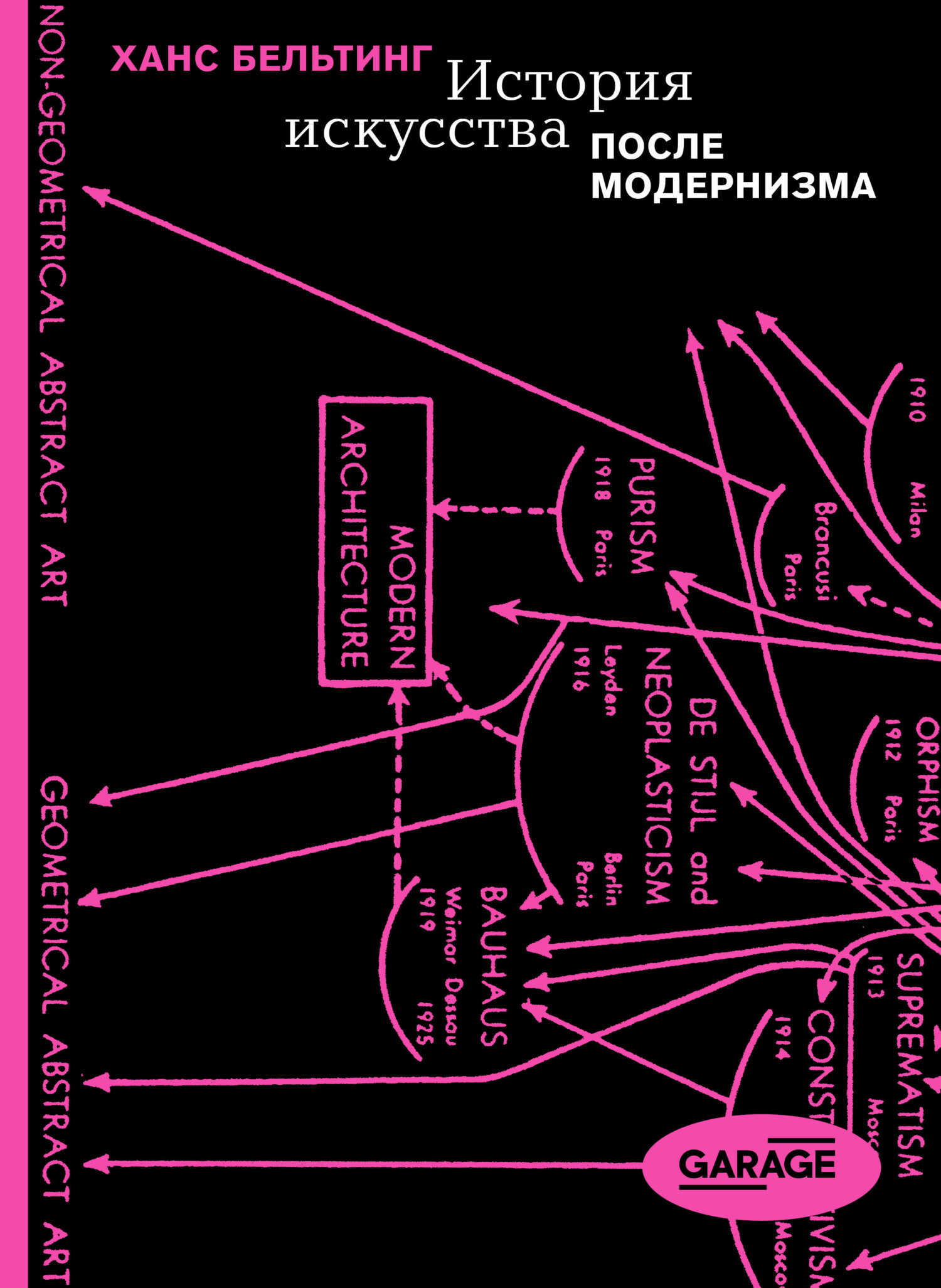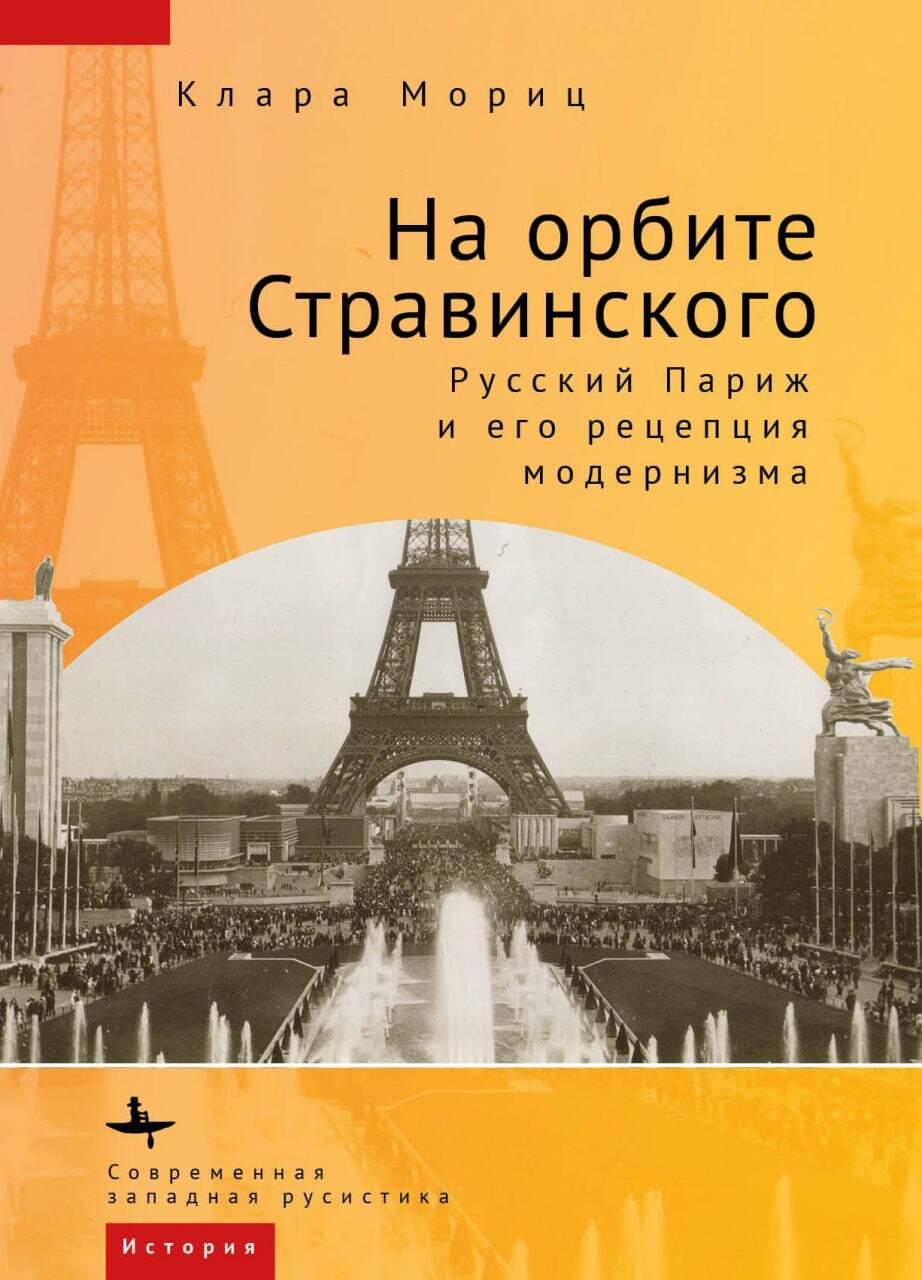Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В час, когда бледнеют скорбно
Истомленные уста, —
Это ты вдали проходишь
В круге красного зонта.
Это ты идешь, не помня
Ни о чем и ни о ком,
И уже тобой томятся
Кто знаком и не знаком, —
В час, когда зажегся купол
Тихим, теплым огоньком.
Это ты в невинный вечер
Слишком пышно завита,
На твоих щеках ложатся
Лиловатые цвета, —
Это ты качаешь нимбом
Нежно-красного зонта!
Знаю: ты вольна не помнить
Ни о чем и ни о ком,
Ты падешь на сердце легким,
Незаметным огоньком, —
Ты как смерть вдали проходишь
Алым, летним вечерком!
Ты одета слишком нежно,
Слишком пышно завита,
Ты вдали к земле склоняешь
Круг атласного зонта, —
Ты меня огнем целуешь
В истомленные уста!
[Ходасевич 1996–1997, 1: 103]
Всепобедная, как смерть, в роковой и болезненной женственности femme fatale поражает своей чувственностью истомленного поэта-декадента151. Повторяющееся наречие «слишком» указывает на чрезмерную чувственность героини. Отношение героя к ней также задано в парадигме fin de siècle – как и другие мужчины, поэт не может не подчиниться губительной страсти, соотносящейся с категорией шопенгауэровской «воли». Голос автора уменьшительно-ласкательными суффиксами (вечерком, огоньком) как будто интериоризирует на эмоциональном уровне атмосферу коварного эротического заигрывания, разлитую в душном летнем воздухе. Взгляд фиксируется на красном зонте, на рябящей в глазах яркой материи, метонимически олицетворяющей губительную женскую власть.
Обращаясь впоследствии к подобной декадентской тематике, Ходасевич будет сознательно – часто иронично – создавать различные формы дистанции между авторским голосом и ценностной системой fin de siècle или раннего модернизма. Один из первых примеров такого дистанцирования можно видеть в резком стилистическом и эмоциональном переходе между упадническим «Закатом» и следующим за ним неоклассицистическим «Увы, дитя! Душе неутоленной…» (конец 1909):
Увы, дитя! Душе неутоленной
Не снишься ль ты невыразимым сном?
Не тенью ли проходишь омраченной,
С букетом роз, кинжалом и вином?
Я каждый шаг твой зорко стерегу.
Ты падаешь, ты шепчешь – я рыдаю,
Но горьких слов расслышать не могу
И языка теней не понимаю [Ходасевич 1996–1997, 1: 104].
Нужно сказать, что «через голову» «Заката» «Увы, дитя! Душе неутоленной…» отвечает и на сентиментальное самооплакивание в «Матери». Заданная трагичность элегической ситуации остраняется стилистически архаизированной речью, театральной эмблематикой и двойным отрицанием в конце стихотворения. Его неоклассицистическая и «мирискусническая» условность указывает на культурную вторичность, театральность переживаемой любовной коллизии. Во второй строфе отношение поэтического «я» резко контрастирует с сентиментальным влюбленным из «Матери» и декадентствующим героем из «Заката». Временная дистанция между стихотворениями примерно в полтора года указывает на значительный шаг Ходасевича в сторону неоклассицистического варианта зрелого модернизма. Эпитет в первой строфе «душе неутоленной» задает стремление к элегической компенсации эмоциональной утраты. Авторский голос, однако, последовательно отчуждает заданную элегическую травму от необходимости ее меланхолического восполнения. Характеризация героини при помощи театральных атрибутов («Не тенью ли проходишь омраченной, / С букетом роз, кинжалом и вином?») указует на культурную обусловленность заявленного чувства.
Вторая строфа усиливает дистанцию между авторским самосознанием и заявленным элегическим сюжетом. Уже эпитет «зорко» в первой строке выбивается из элегического тона первой строфы. Это скорее взгляд критически мыслящего и сдержанного зрителя на сцену, чем взгляд непосредственного участника любовного действия, как было в предыдущем стихотворении. Выражение «зорко стерегу» вводит новый ценностный ориентир внимательного самообладания, в корне отличный от сентиментализма «Матери» или безвольной самоотдачи «декадента» губительному женскому соблазну в «Закате»152. Сдержанное внимание в первой фразе усиливается и подспудным чувством самозащиты, связанным с глаголом стеречь (ср. стеречься). Такое отстраненное и опасливое отношение к навязываемому любовному сценарию дублируется осознанием его культурной вторичности, резко контрастируя с эмоциональной вовлеченностью в предыдущих стихотворениях.
Последние две строки с их двойным отрицанием ретроактивно определяют стихотворение как переосмысление орфической элегии. Если Орфей традиционно преодолевает дистанцию между миром живых и мертвых, то протагонист стихотворения утверждает непреодолимость этой дистанции. Анти-Орфей Ходасевича вступает в диалог со стихотворением Брюсова. Если в «Орфее и Эвридике» измененный онтологический статус героини выражается в ее отчуждении и «непонимании» покинутой жизни, то у Ходасевича сам поэт (в отличие от Орфея Брюсова) – при всей своей «зрительской» включенности в действие – утверждает существование «четвертой стены» и свое бессилие (или нежелание) ее преодолеть. Анти-Орфей Ходасевича, таким образом, отказывается от орфической оглядки. При этом характерно, что в этом стихотворении визуальные ассоциации явно преобладают над аудиальными. Подслушивание неясных сигналов из потустороннего заменяется зорким вглядыванием и анализом психологических и культурных истоков чувства.
Это предпочтение визуального ряда, как и утверждение непроницаемой четвертой стены между миром живых и мертвых, определенно имеет метапоэтическое значение. Вспомним, что в процитированном выше акмеистском манифесте Гумилев говорит о «нецеломудренности» для искусства попыток проникновения в «непознаваемое». Разъединенность областей религии и искусства, самодостаточная ценность искусства были ключевыми для умеренного полюса модернизма. Ходасевич пытается тематизировать эти ценности на материале орфического сюжета уже в стихотворении 1909 года. Оно в этом отношении перекликается со стихотворением Анненского «Поэту», в конце которого сходным образом орфический миф используется для противостояния двух творческих подходов этого времени: радикального смешения религии и эстетики и, напротив, стремления к их раздельности и установке на целокупном или совершенном восприятии эстетических объектов:
Красой открытого лица
Влекла Орфея пиерида.
Ужель достойны вы певца,
Покровы кукольной Изиды?
Люби раздельность и лучи
В рожденном ими аромате.
Ты чаши яркие точи
Для целокупных восприятий
[Анненский 1990: 206].
Ходасевич не мог знать стихотворения Анненского, оно было напечатано впервые только в 1959 году. Тем не менее характерно, что примерно в одно время два поэта пытаются определить сходные эстетические задачи и орфический миф служит для них полемическим контекстом для соотнесения с противоположным полюсом русского модернизма153. Таким образом, «Увы, дитя! Душе неутоленной…» задает оригинальное переосмысление орфической оглядки, которое Ходасевич затем будет варьировать и в других стихотворениях, например в «Скале» (1927), о которой я пишу далее. «Неоглядка» становится ключевым элементом (орфической) антиэлегии Ходасевича, связанной с разрабатываемым им вариантом умеренного полюса зрелого модернизма.
Центральное значение в рассматриваемом орфическом микроцикле имеет стихотворение «Душа» – среди прочего, поскольку оно
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт