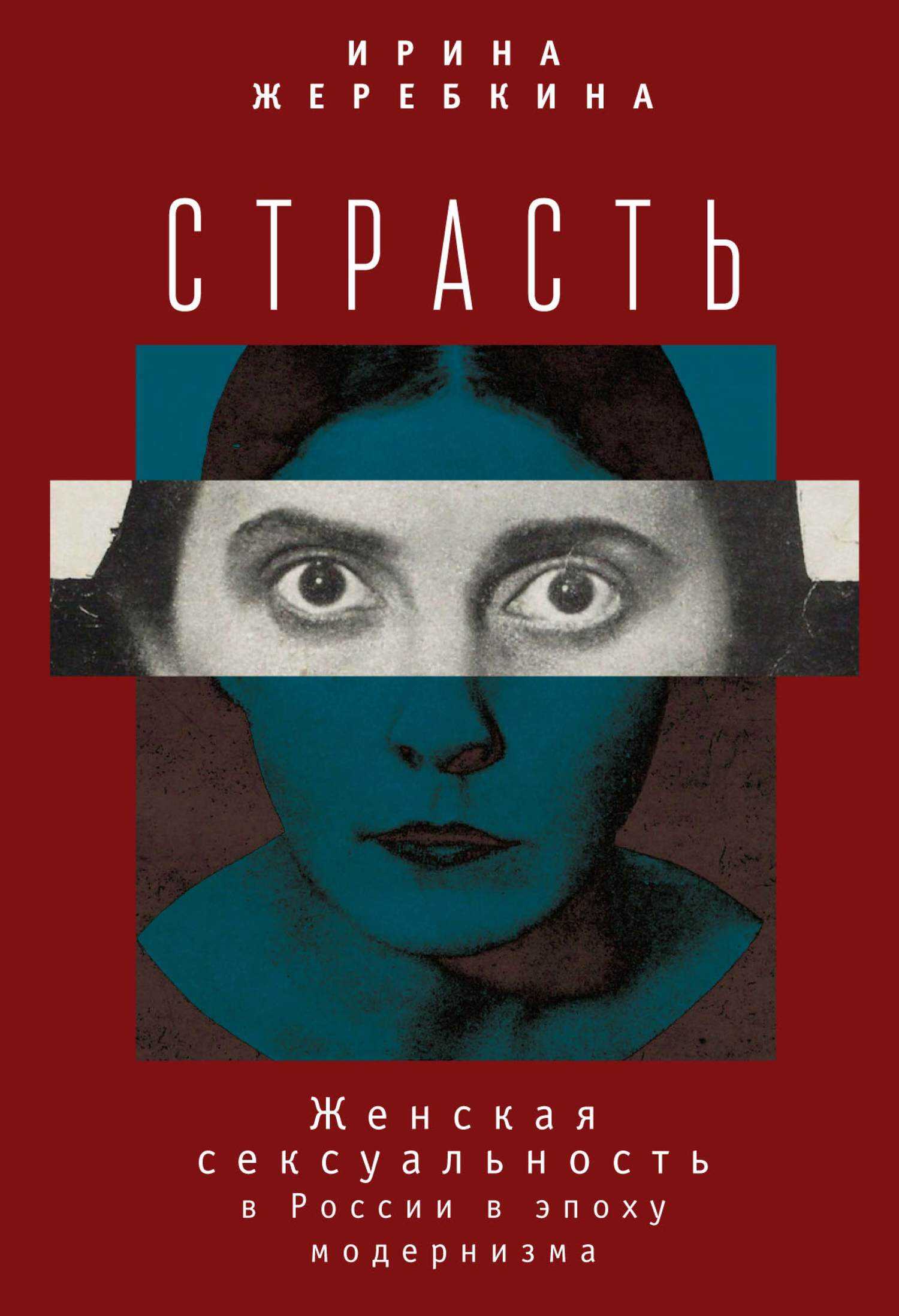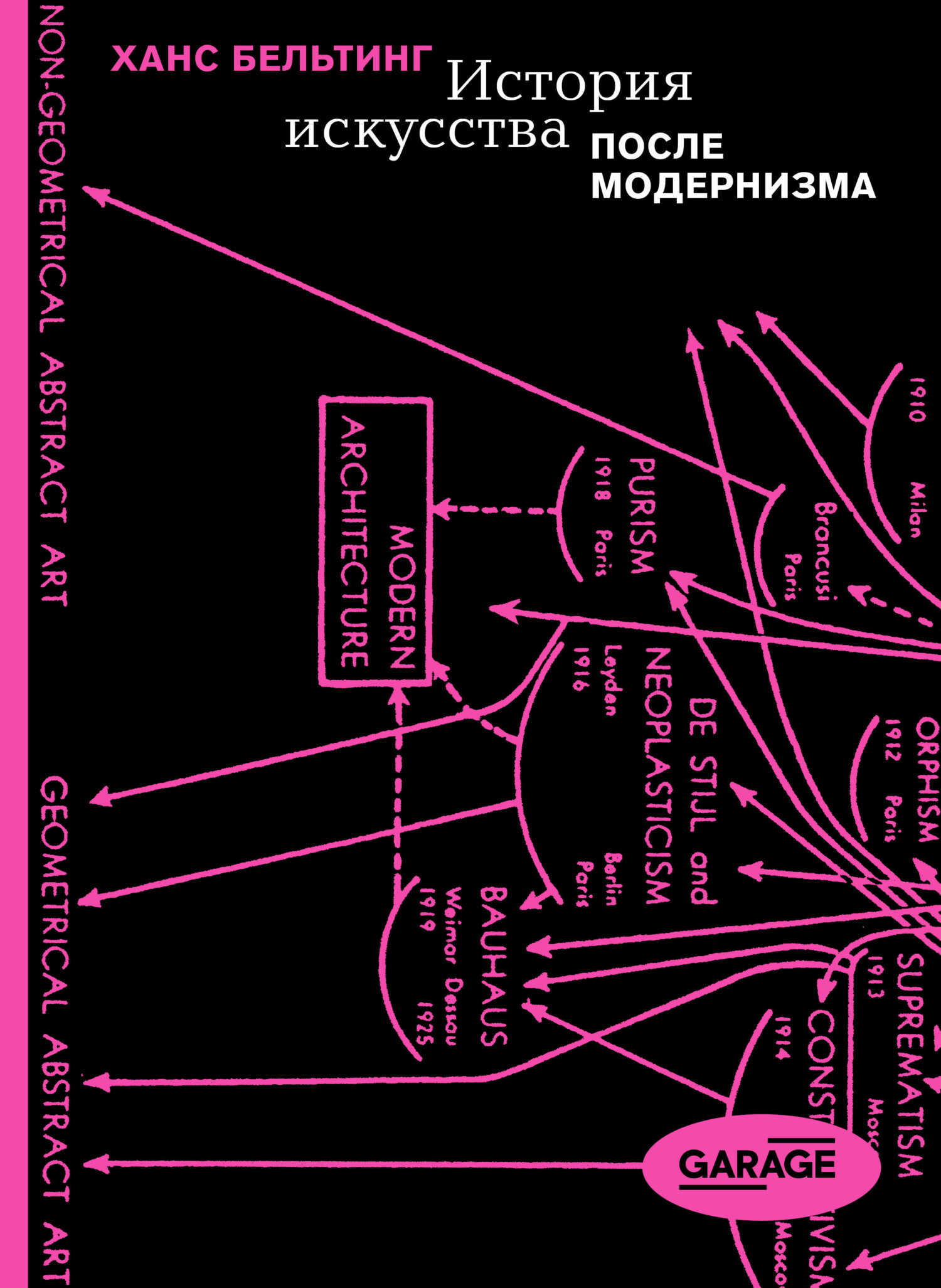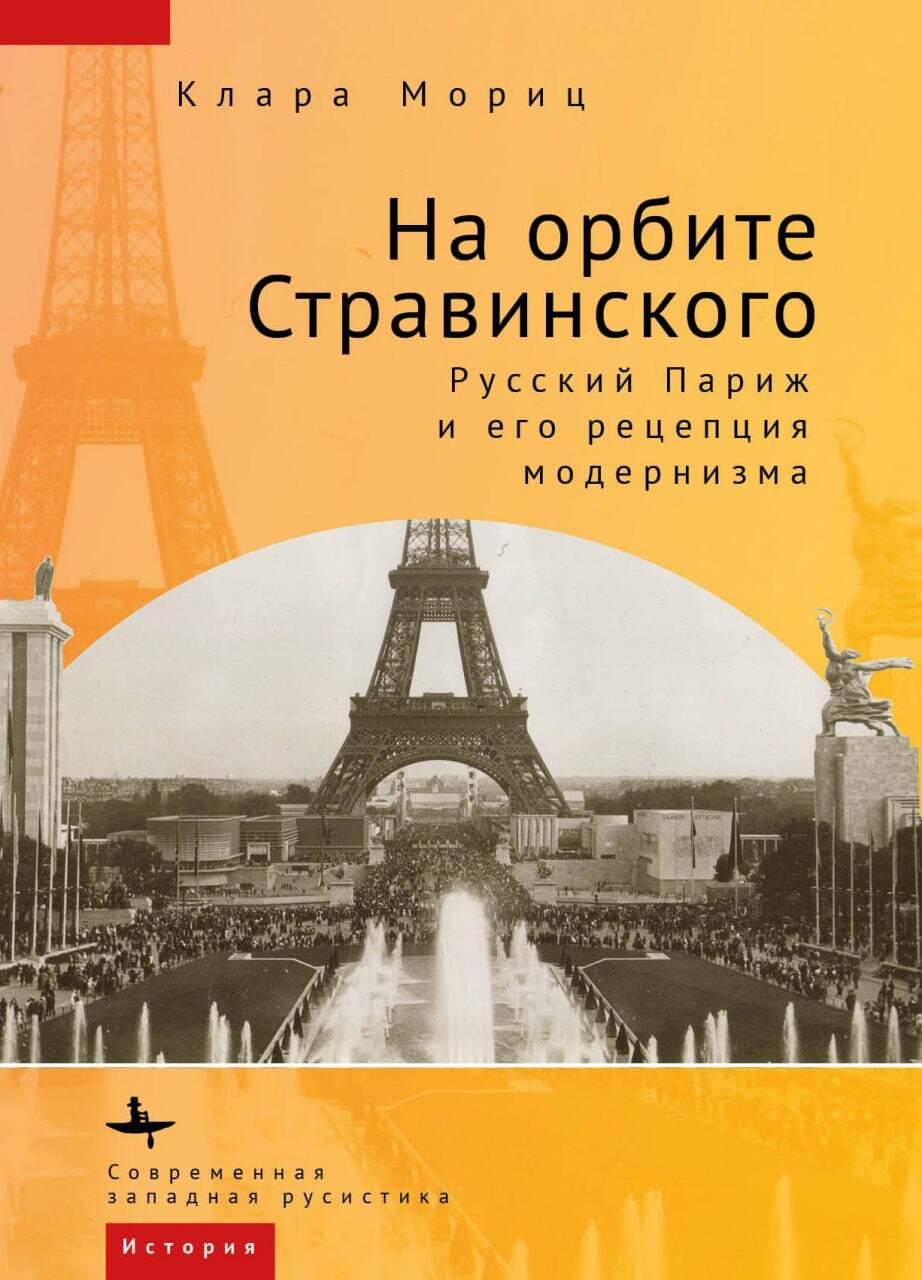Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В стихотворении «На перламутровый челнок…» Мандельштам делает следующий шаг по включению натурфилософской образности раковины в сферу человеческой деятельности. На этот раз это ткачество, которое кодирует процесс создания художественной ценности, в том числе и поэтического текста. «Приливы и отливы рук», вызывающие ассоциацию с «естественным» движением водной стихии, обозначают действия ткачества, которая, в свою очередь, начинает приобретать естественное натурфилософское значение. И как руки сравниваются с водной стихией, так «перламутровый челнок» становится «перламутровой» раковиной, формой творящего микрокосма. Далее процесс тканья наделяется заклинательной функцией, где ладонь, как раковина, представляется носителем мистического знания. В дополнение к превращению культурного в природное, как в предыдущем стихотворении, Мандельштам также наделяет бытовую деятельность эстетическим и неопределенно мистическим значением – широкая ладонь/раковина произвольно переходит от «теней», ассоциирующихся с Аидом, к «розовому огню», отсылающему, по-видимому, к «огню» Гераклита. Мистико-философский план лишается своей главенствующей роли, как было в раннем модернизме, в то время как эстетическая деятельность обретает квазирелигиозное значение. Как и в «Раковине», Мандельштам показывает в этом стихотворении свое «мастерство» в превращении культурного в природное, в создании «мифа». Ценностная переориентировка с идеологических планов на эстетические затем эксплицируется в манифесте «Утро акмеизма»:
<М>ироощущение для художника – орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственное реальное – это само произведение [Мандельштам 2009–2011, 2: 22].
Перейдем к обсуждению стихотворения Ходасевича «Возвращение Орфея» (20 февраля 1910):
О, пожалейте бедного Орфея!
Как скучно петь на плоском берегу!
Отец, взгляни сюда, взгляни, как сын, слабея,
Еще сжимает лирную дугу!
Еще ручьи лепечут непрерывно,
Еще шумят нагорные леса,
А сердце замерло и внемлет безотзывно
Послушных струн глухие голоса.
И вот пою, пою с последней силой
О том, что жизнь пережита вполне,
Что Эвридики нет, что нет подруги милой,
А глупый тигр ласкается ко мне.
Отец, отец! Ужель опять, как прежде,
Пленять зверей да камни чаровать?
Иль песнью новою, без мысли о надежде,
Детей и дев к печали приучать?
Пустой души пустых очарований
Не победит ни зверь, ни человек.
Несчастен, кто несет Коцитов дар стенаний
На берега земных веселых рек!
О, пожалейте бедного Орфея!
Как больно петь на вашем берегу!
Отец, взгляни сюда, взгляни, как сын, слабея,
Еще сжимает лирную дугу!
[Ходасевич 1996–1997, 1: 106]
Сразу обратим внимание на частотность названия «Возвращение Орфея» в русском модернизме: кроме стихотворения Ходасевича упомяну одноименное стихотворение Вс. Рождественского, о котором я буду писать далее, и первоначальное название книги Адамовича «Облака» (1916). Это словосочетание используется в названиях модернистских произведений, возможно, не в последнюю очередь благодаря анаграмматичности («овре – орфе»), которая служила эмблематичным выражением ее метапоэтического значения: возвращение поэзии как особой формы восприятия действительности, утверждение ее актуальности в современном мире. Возвращение Орфея выступает аналогом анабасиса по отношению к орфическому катабасису как ключевой гносеологическо-сотериологической задаче поэзии и может кодировать разнообразные – вплоть до полемических – отклики на катабасисы Орфея у других поэтов.
Н. А. Богомолов высказал мнение, что название «Возвращение Орфея»
по сути своей <…> является конструкцией из брюсовских лексем, использованных в заглавиях: «Возвращение» – название первого раздела и первого стихотворения в «Tertia vigilia» и «сонаты» из книги «Все напевы», а Орфей – не только дважды упоминается в названиях стихотворений из книги «Stephanos» (причем оба раза в разделе «Правда вечная кумиров» – «Орфей и Эвридика» и «Орфей и аргонавты»), но еще и дал имя не опубликованному при жизни Брюсова стихотворению 1903 года, в котором сосредоточены те же ключевые слова, что и у Ходасевича (берег, пение, лира, горы, голоса, Эвридика, тигр, камни, песня, надежда, девы, победа, душа), равно как и их парафразы или развитие (лепечущие леса – немолчные воды, шум лесов – шумная буря, пленять зверей – смирять пантер), да и начала стихотворений явственно перекликаются: «Вакханки встретили Орфея (рифма: немея) / На берегу немолчных вод» у Брюсова и: «О, пожалейте бедного Орфея (рифма: слабея) / Как скучно петь на плоском берегу!» у Ходасевича. Кажется, не будет особой смелостью предположить, что это стихотворение Брюсова, по каким-то причинам оставшееся вне печати, Ходасевич мог слышать в чтении самого автора [Богомолов 2010: 159].
В пользу вероятности того, что это стихотворение мог слышать не только Ходасевич, говорит и то, что стихотворение С. Соловьева «Плач Орфея», опубликованное в 1909 году («Весы», № 4), перекликается со стихотворениями Брюсова и Ходасевича. Ср. последнюю строфу стихотворения Брюсова: «Но, не покинув лиры вещей, / Поэт, вручая свой обол, / Как прежде в Арго, в челн зловещий, / Дыша надеждой, перешел», – и первую строфу стихотворения Соловьева: «Сказав прости холмам веселым, / Я в ночь сошел, и правит челн / Харон, подкупленный оболом, / Средь бешенства свинцовых волн» [Соловьев С. 1909: 7]. Ср. также «оперные» восклицания Орфея Соловьева, возможно, отсылающие к опере Глюка «Орфей и Эвридика»: «О пощадите возраст юный!», «Заветный вечер. Чу!», «Тебя, тебя я вижу… ах!»177 – и повторяющиеся в первой и последней строфе восклицания Орфея Ходасевича, создающие сходный мелодраматический эффект: «О, пожалейте бедного Орфея! / Как скучно петь на плоском берегу!», «О, пожалейте бедного Орфея! / Как больно петь на вашем берегу!». В этом отношении можно дополнить наблюдение Богомолова тем, что
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт