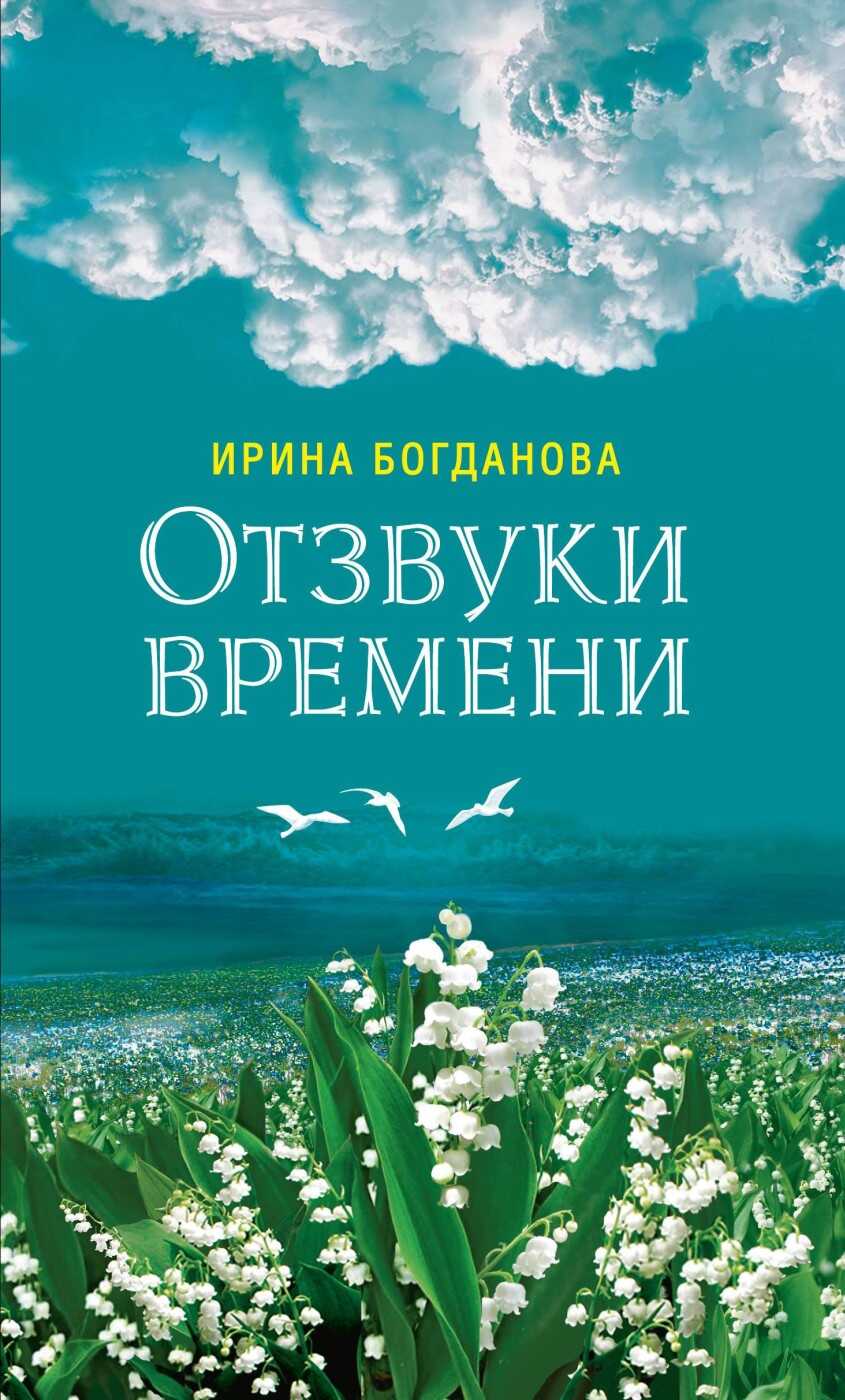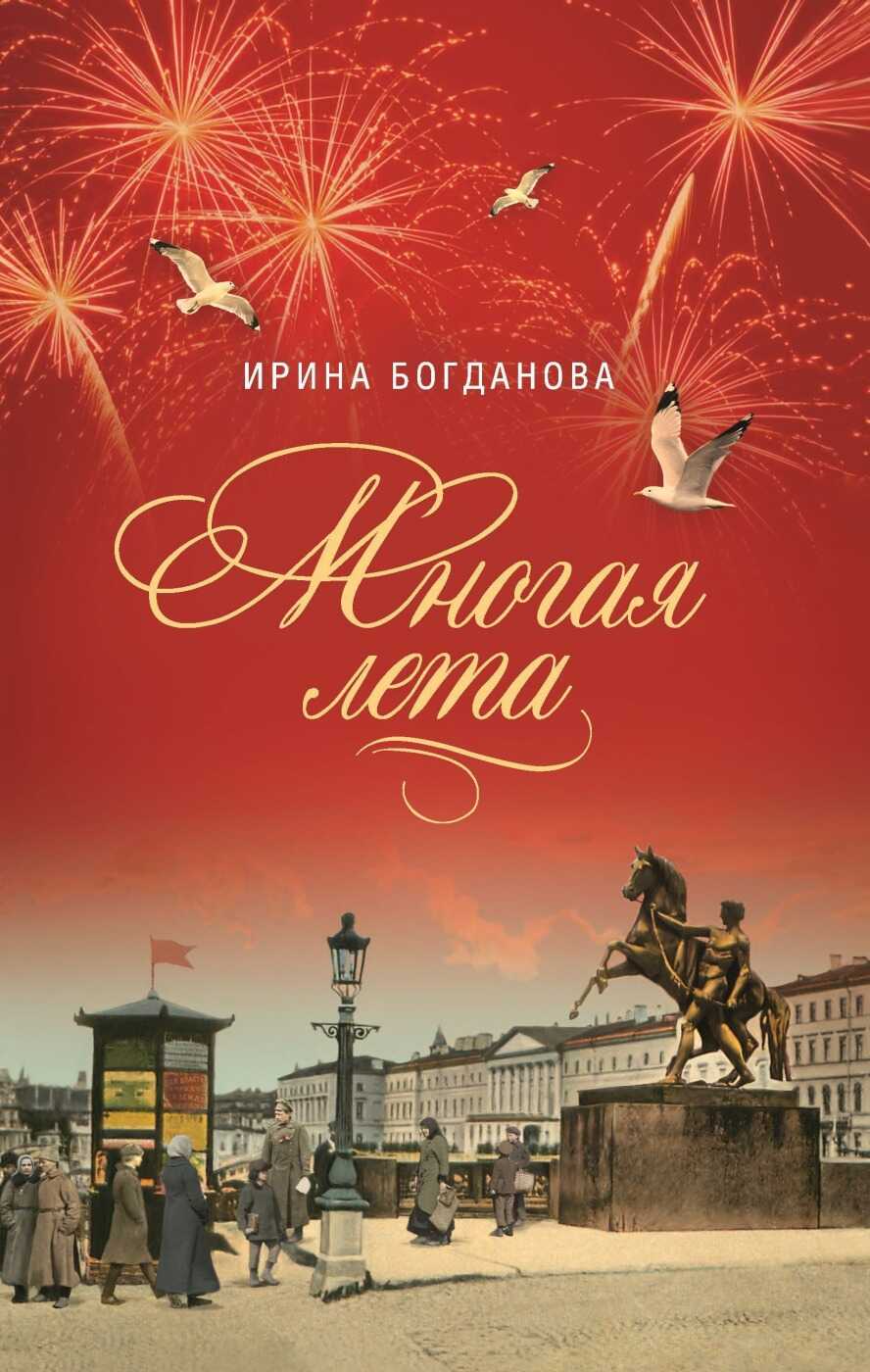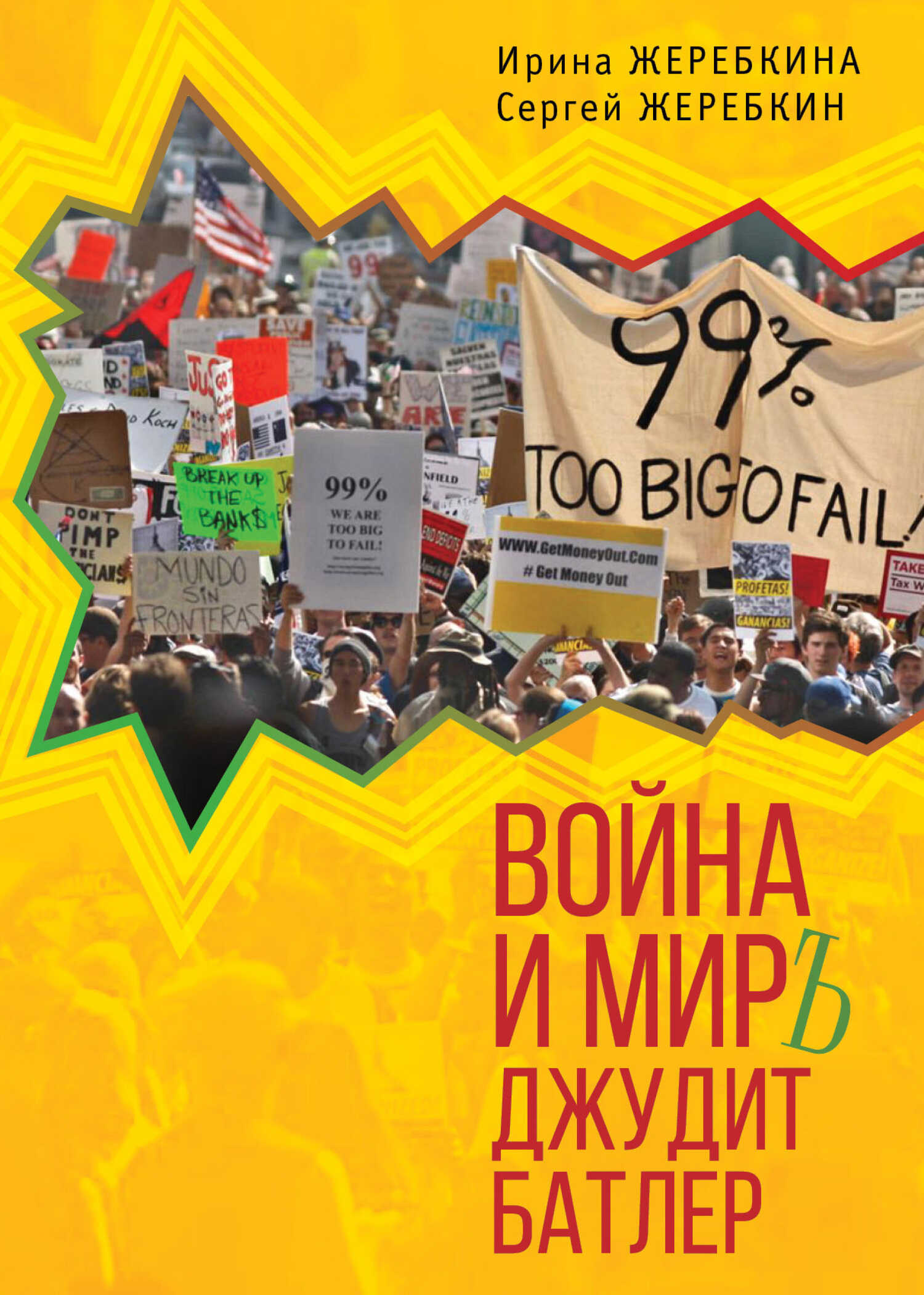Страсть. Женская сексуальность в России в эпоху модернизма - Ирина Анатольевна Жеребкина
Книгу Страсть. Женская сексуальность в России в эпоху модернизма - Ирина Анатольевна Жеребкина читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Крушение мифа о киберязыке: возвращение травматического
Описывая феномен голода как состояние аффекта, не передаваемое посредством антропологических характеристик, Лидия Гинзбург тем не менее обнаруживает в нем эффект антропологизации, связанный, в частности, с изменением блокадной хлебной нормы от 125 до 400 грамм хлеба в день: если первое состояние голода не знает никаких антропологических кодификаций (кроме «непреложности аффекта», по выражению Гинзбург), то второму соответствуют «соблазны и надежды» («вдруг человек найдет работу или ему дадут взаймы, вдруг он украдет, или выпросит, или под приличным предлогом пообедает у знакомых»…). В результате на втором уровне функционирования чувственности блокадного человека Гинзбург обнаруживает эффект антропологизации аффекта голода.
• Во-первых, с переменой хлебной нормы в блокадном Ленинграде ведущим в регуляции блокадной жизни неожиданно оказывается традиционное антропологическое чувство – зависть к тому, у кого больше хлебный паек. «Люди страстно захотели есть», – свидетельствует Гинзбург. «Им хотелось, например, сидеть перед темной буханкой, отрезать от неё толстый ломоть за толстым ломтем и макать его в постное масло. А. Ф. говорил, что хочет только одного – вечно пить сладкий чай с булкой, намазанной маслом. Третьи хлебную тему варьировали. Они думали о мучной каше, сладостно залепляющей рот, об овсяной каше с её ласковой слизью, о тяжести лапши».[289] Можно сказать, что знаменитая фрейдовская зависть как «зависть к пенису» в ситуации блокады трансформируется в конкретную, животную зависть к обладающим большим хлебным пайком. Например, у профессоров он стал больше, чем у доцентов, у работающих больше, чем у неработающих, иждивенцы вообще не получают обеда. Все неантропологические состояния блокадного, дистрофичного человека (блокадные телесные метаморфозы, распадение функций тела до полной неподвижности и дистрофия или, напротив, опухание, распадение воли до полной апатии и оцепенения, сон, еда, смерть и т. п.), регулируются, завистью как единственным признаком жизни.
• Во-вторых, неантропологический аффект голода, оказывается, может дополняться антропологическим измерением социального престижа: кто выше в служебной машине власти, у того выше паек. «Еда – в многообразных своих социальных жанрах – искони являлась предметом сублимации», – пишет Гинзбург, отмечая при этом, что у блокадного человека «иерархия проявлялась необычайно ясно и грубо».[290] В главе «Столовая» еда как внеантропологическая блокадная характеристика показана как манифестация социальных иерархий: высшей социальном иерархии соответствует высшее качество еды («ешьте, не стесняйтесь, белые булки…»). В этом эпизоде характерно исчезновение аппетита у главного героя Эн – по той причине, что он не может интегрировать в свой универсум наслаждение Другого как биологическое наслаждение едой.
Таким образом, в формалистском эксперименте репрезентации неантропологической чувственности Гинзбург не удается избежать травм антропологизации. Для блокадного человека, оказывается, травма смерти не является травмой, а травма зависти – является; зависть – это единственное антропологическое чувство в структуре неантропологических аффектов блокадного человека, которое, тем не менее, репрезентирует форму блокадной жизни.
Именно в контексте восстановления антропологической чувственности производится и то, что Гинзбург называет «этическим фактором»: если раньше этика не имела места быть в неантропологическом аффекте голода, а смерть приравнивалась к простому перераспределению карточек («когда умирал кто-нибудь в семье и до конца месяца можно было отваривать его карточки»[291]), то теперь, по мнению Гинзбург, появляется «близлежащий символ социальности» – например, выбор типа поведения («вот человек, уносящий добычу, чтобы поглотить её молча в своем одиноком жилище. А вот другой, который придет домой, выложит добычу на стол, и кто-то восторженно на неё отзовется».[292]).
Гинзбург обращает внимание на то, что позже зафиксировал Джорджо Агамбен, введя понятие homo sacer: «Для переживших блокаду раскаяние было так же неизбежно, как дистрофические изменения организма, – формулирует Гинзбург. – Это блокадный человек думает о жене, матери, чья смерть сделала съеденную конфету необратимой. Рассеивается туман дистрофии, и отчужденный от самого себя человек встречает предмет своего стыда и раскаяния».[293]
Одновременно Гинзбург в послевоенных записях из Записных книжек фиксирует и другой механизм производства антропологической субъективности в тоталитарных условиях – антропологизацию страха, исчезнувшего во время войны, но возникшего вновь после неё. В частности, она сравнивает отсутствие страха у себя во время блокады и ситуацию его возвращения в 1952 году, когда её заставляли написать донос на её учителя Бориса Эйхенбаума. И хотя она отказалась, но испытала при этом такое чувство страха, от которого она, по её словам, смогла избавиться только через два месяца после смерти Сталина. Функцией тоталитарной власти и был, собственно, эффект формирования антропологического чувства страха как вины: политические судебные процессы сталинской власти строились, как известно, как механизм производства вины.
Если в этом контексте вернуться к литературной теории и практике формалистов, предприняв попытку её «пристального прочтения» (в терминах феминисткой литературной критики 60-80-ых годов и теоретиков «новой критики»), то нетравматические и неэкзистенциальные по видимости характеристики формалистской «анекдотической» субъективности можно прочитать как симптомы антропологической травмы. Подобно тому, как в романе Тынянова Смерть Вазир-Мухтара документальная история дипломатической карьеры Грибоедова прочитывается в итоге как серия личных, отсылающих к детству травм (связанных с отсутствием взаимопонимания в отношениях с матерью и в отношениях с властью), в Записках блокадного человека Гинзбург в ходе пристального прочтения также обнаруживается, как устанавливающие дистанцию остранения по отношению к травме блокадные голодные анекдоты («с возобновлением рынка одни начали гордиться тем, что особенно дешево покупают ботву или крапиву…» и т. п.) транслируют опыт травмы: переданная Гинзбург в форме анекдота неспособность блокадного субъекта правильно поделить хлебный паек, контролировать ритм и сочетание еды и т. д. ведет не только к его драматической идентификационной (рассказ «Как сдаются» из Записок блокадного человека), но и к буквальной трагической смерти от голода.
Таким образом, можно сделать вывод, что утопия идеального неантропологического киберязыка Лидии Гинзбург не может состояться и терпит крах:
• На примере проекта киберязыка Гинсбург мы становимся участниками и свидетелями возвращения аффективного, травматического измерения мышления, на очевидность которого указывает описываемая ей симптоматика идентификационного поражения субъекта, терпящего антропологическую катастрофу. Поэтому перечисляя правила, посредством которых блокадный субъект пытается осуществить рационализацию аффекта голода, Гинзбург постоянно фиксирует невозможность их соблюдения: антропологический субъект не выдерживает подчинения «спасительным» правилам…
• Текстуальное киберпространство, с одной стороны, регулируется средствами литературных технологий (литературного приёма), с другой стороны, вследствие их гетерогенности лишает субъекта всякой возможности осознавать и регулировать функционирование машинерии текста (описание власти голода или тоталитарной власти) и
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
 Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин
Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин