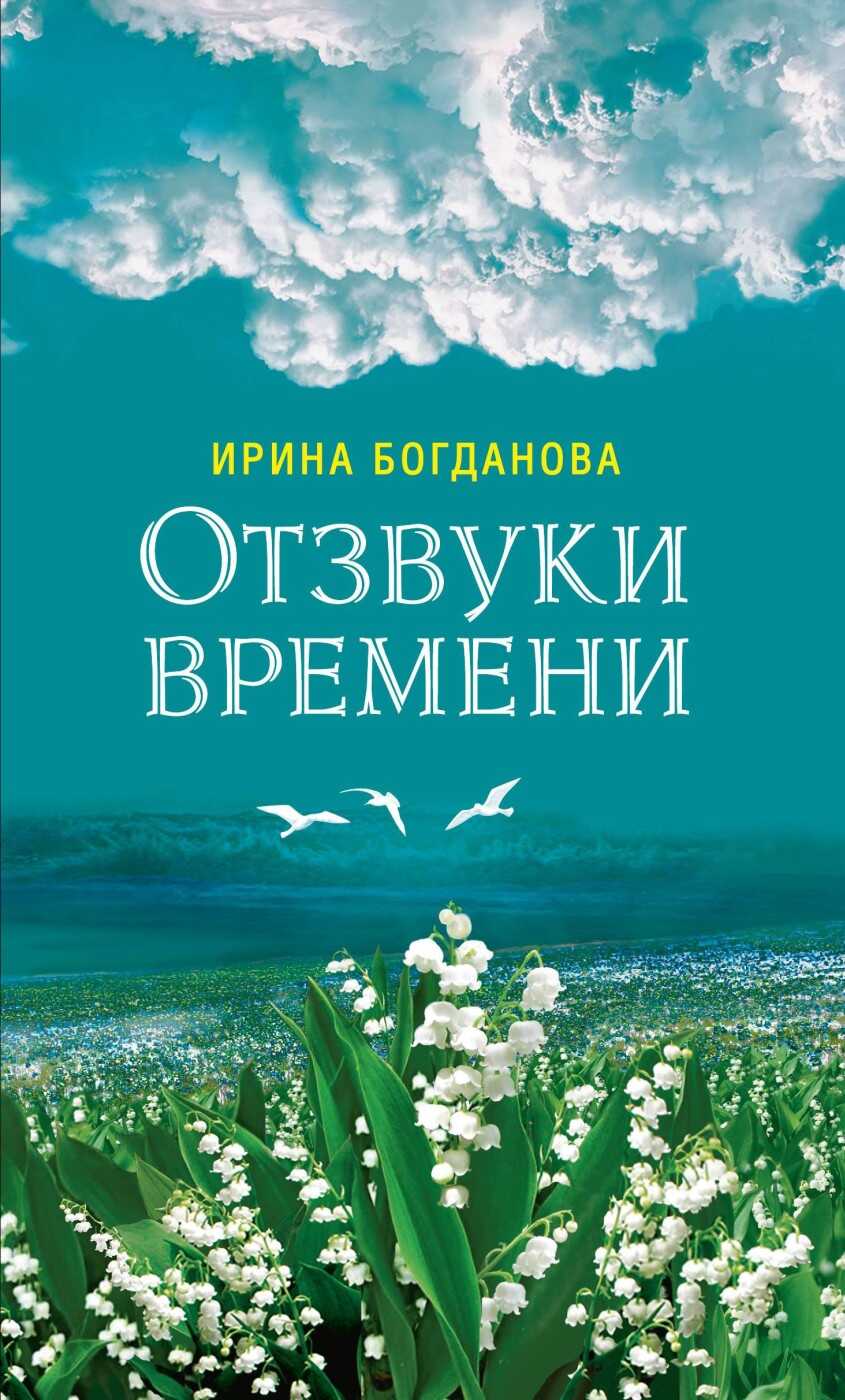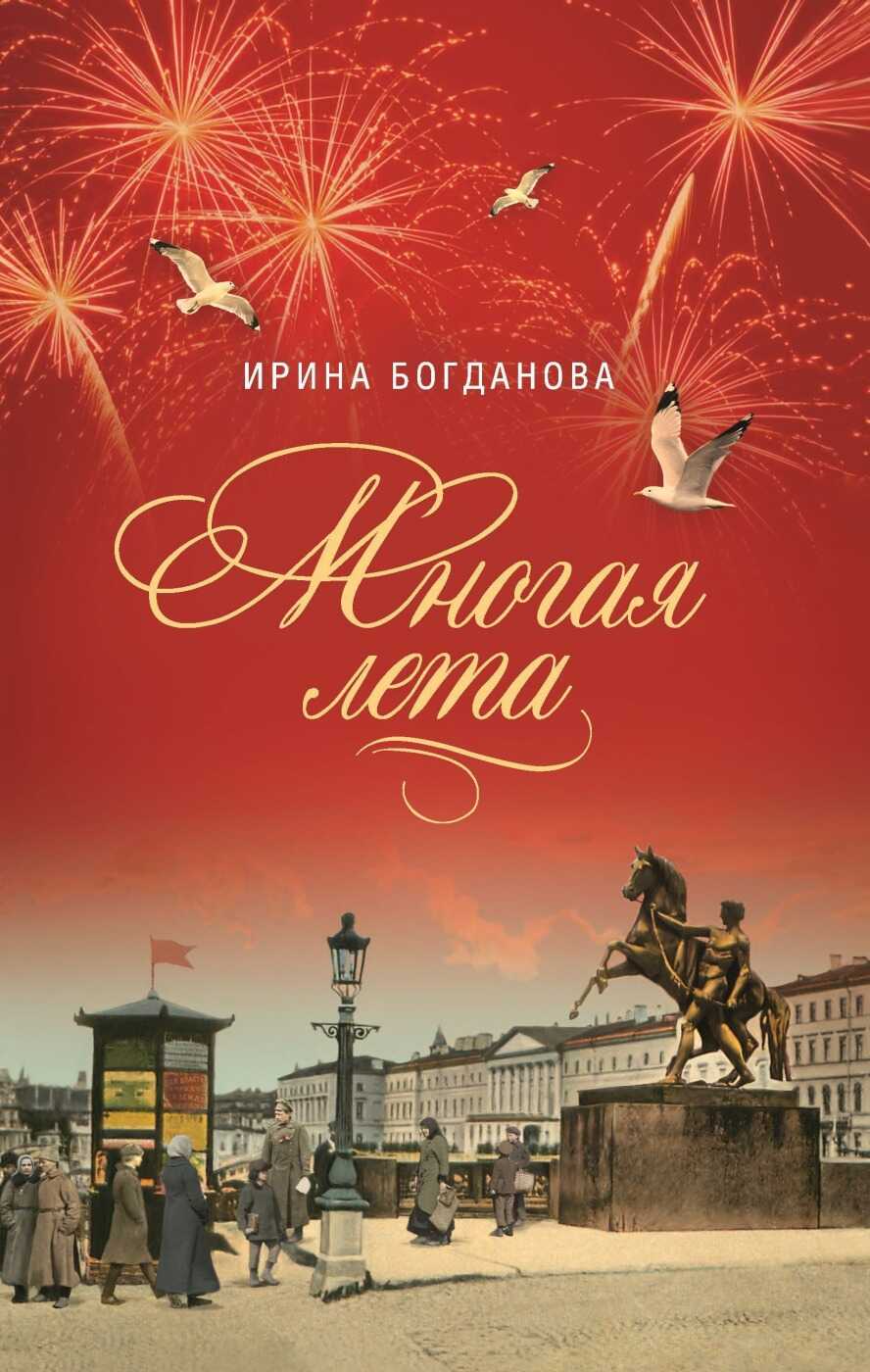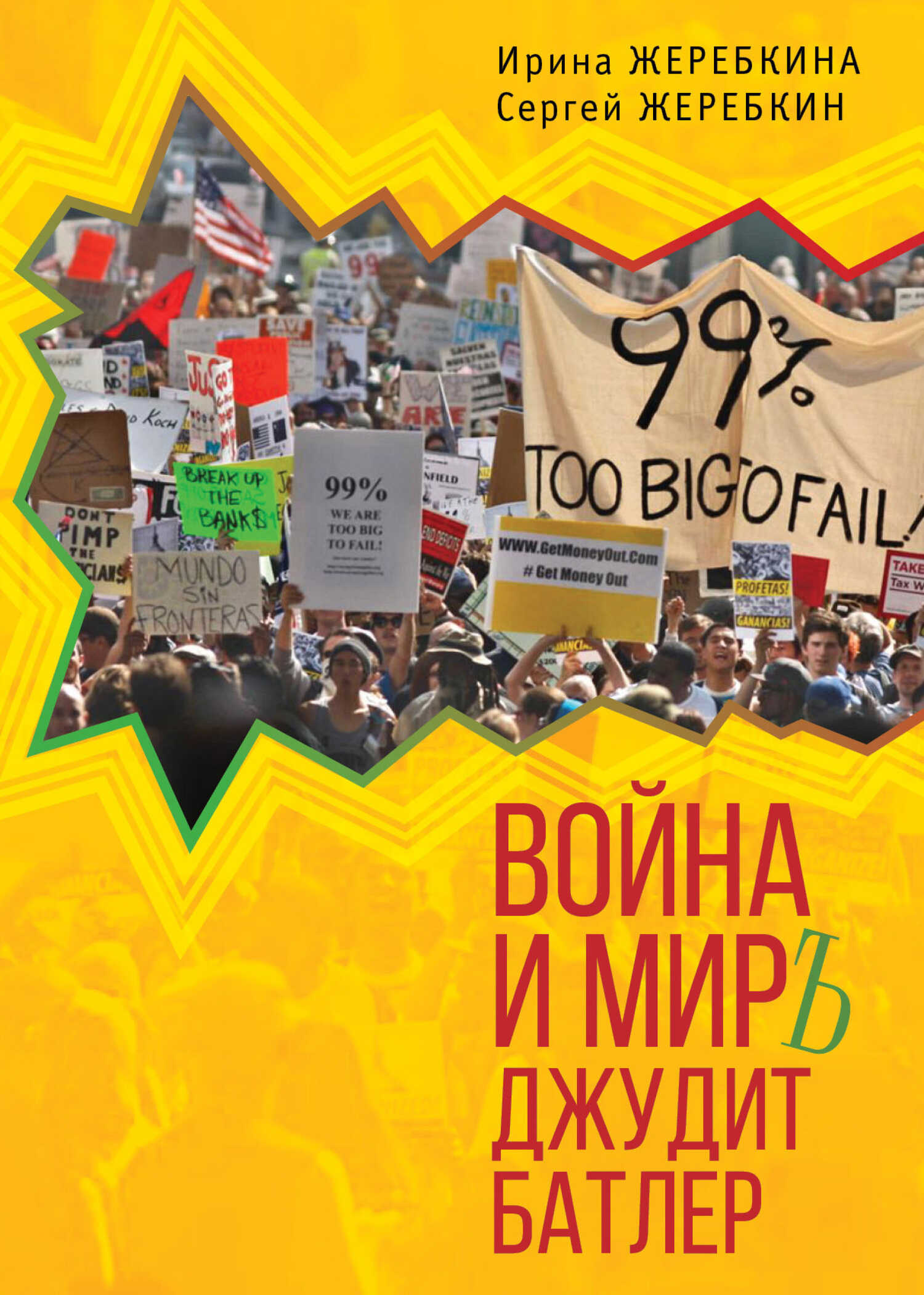Страсть. Женская сексуальность в России в эпоху модернизма - Ирина Анатольевна Жеребкина
Книгу Страсть. Женская сексуальность в России в эпоху модернизма - Ирина Анатольевна Жеребкина читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
• Во-вторых, прием анекдотизации и эксцентризации субъективности: чем выше степень внутренних переживаний субъекта (например, переживаний дистрофика по поводу еды в Записках блокадного человека), тем эксцентричнее и комичнее они выглядят для внешнего наблюдателя. Этот парадоксальный эффект техники наблюдения описал Фуко на примере механизма паноптикумного наблюдения в работе Надзирать и наказывать: что бы не происходило в камере у заключенного, какие бы личные трагедии и отчаяние он не переживал в своём сознании, с точки зрения внешнего наблюдателя в паноптикуме, все это – лишь серии эксцентрических жестов. Внешний эксцентризм героя указывает на максимальную степень его внутренних переживаний, но у читателя – как внешнего наблюдателя/ надзирателя – не может состояться с ним никакой личной идентификации, а значит, сострадания герою. Любые поступки героя воспринимаются наблюдателем как нелепые эксцентричные жесты. Отсюда интерес формалистов к анекдотическому и эксцентричному поведению «чудаков» и «отверженных» в истории русской литературы,[259] который у Гинзбург трансформируется в интерес к «маниакальным голодным разговорам» или «оцепененному поведению» дистрофиков в её блокадных воспоминаниях (главы «Отрезки блокадного дня» или «Столовая», например). Герой наррации не имеет в таком случае возможности быть героем: он становится жалким, трагикомическим персонажем – как главный герои Эн из Записок блокадного человека в его торопливом, по выражению Гинзбург, «пробеге от еды к еде».
В-третьих, прием криминализации субъективности: чем более субъект репрессирован и унижен, тем более репрезентация его страдания выглядит патологической, в пределе – криминальной.[260] Патологично, трагично и комично одновременно, не только поведение Кюхельбекера в романе Тынянова Кюхля, поведение лицеиста Пушкина в неоконченном романе Тынянова Пушкин и история его любви/ненависти к собственной семье и семье Карамзина, поведение исследуемых Гинзбург декабристов – людей «двадцатых годов» с их «прыгающей», по словам Гинзбург, походкой и романтизмом, но и поведение голодающих и гибнущих блокадных людей в гинзбурговских Записках блокадного человека – в частности, в эксцентрично-анекдотичных ситуациях «голодного безумия», кражи еды или маниакальных разговоров про неё. «Одна из собеседниц утверждает свое превосходство тем, что не ела кашу, другая тем, что не ела селедку (тоже плебейское блюдо). И не евшая кашу чувствует, что её с селедкой поймали врасплох. “Нет, почему…” – реплика растерянности. Потом настаивает на своем, расширяя демократическую любовь к селедке до любви к острой еде вообще. Так прибавление соленых огурцов облагораживает селедку».[261] Литературный анализ Гинзбург приобретает в таком контексте параметры фукианского медицинского взгляда – поиска слабых мест и точек боли в человеческой субъективности, проявляющихся в повседневных «голодных разговорах» и разговорах о любви к еде.
В результате можно выделить следующие основные характеристики гинзбургского, позже названного постмодернистским киберязыка:
• Во-первых, персонаж в киберязыке становится бестелесным и неуязвимым субъектом без нехватки, способным с помощью иронии, каламбура, анекдота и остранения менять и подчинять своему рациональному контролю любую внерациональную ситуацию как бы «одним щелчком мыши» – формалистским литературным приемом. В результате можно сказать, что несимволизируемое лакановское Реальное в языке Гинзбург становится доступным для описания (в том числе блокада и голод), принимая (в терминах формалистов) форму виртуального литературного факта.
• Во-вторых, рационально и технологически структурированный универсум формально понятого языка, в который Гинзбург как бы катапультируется ежедневно с помощью научной работы и дневниковых записей, помогает ей, по её признанию, избежать «ужаса и темноты» повседневной жизни. Достаточно только освоить виртуальные правила литературного дискурса, чтобы создать терапевтическое киберпространство языка как замещение пространства «реальности» измерением виртуального.
• В-третьих, «реальность» в киберпространстве приобретает характеристики не внешней реальности по ту сторону виртуальной, а просто еще одного окна на экране, когда переход от одного виртуального окна ко всем возможным другим достигается опять же лишь щелчком «мыши» – механизмом литературного приема, независимо от того, что именно служит для него жизненным материалом. В случае Гинзбург это или записные книжки Вяземского, или проза Пруста, или ленинградская блокада и др.
Итак, «эмоцию, страсть в самом деле удалось подавить». На фоне поверженных войной её учителей-мужчин русских формалистов – главный учитель и соблазнитель Тынянов, тяжело переболев «бюргеровой болезнью» (рассеянный склероз), умер в 1943 году;[262]
у Эйхенбаума погиб на фронте сын;[263] Шкловский давно был повержен «халтурой» – Гинзбург удалось осуществить невероятный литературный эксперимент: через знаменитую формалистскую технологию остранения – описание войны как аннигиляции тела и аффекта, иначе говоря, аннигиляции травмы – воспринимать войну как не-войну.[264]
Реальность против виртуальной реальности: текстология Эммы Герштейн
В отличие от виртуального письма Лидии Гинзбург, письмо Эммы Герштейн строится как текстологическая фиксация «реальности» автором, позиционирующим себя в качестве свидетельницы.
Понятие текстологии в этом контексте используется Герштейн по аналогии с понятием архива Мишеля Фуко как способа фиксации бессознательного, то есть аффектированной чувственности (в отличие от объективистской ориентации методов традиционной истории), которую Герштейн анализирует на примере основных героев своих Мемуаров – Осипа и Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой и Льва Гумилева и их окружения.
В результате основным методом письма Эммы Герштейн становится текстологическая фиксация «ненормативных», по её мнению, характеристик субъективности поэтов и писателей в форме различных «скандальных» свидетельств её Мемуаров – например, «разоблачительных» свидетельств из материалов следственного дела Осипа Мандельштама или свидетельств эксцессивной сексуальности у людей, у которых русская литературоведческая традиция старалась характеристики сексуальности не фиксировать, – Осипа и Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой и др. Соответственно и язык у Герштейн – как язык текстологии – служит цели раскрытия характеристик субъективности, в русской культурной традиции маркируемых как «ненормальных», и выступает способом обнаружения различных перверсий предположительно неперверсивной субъективности: вскрывает за прекрасным ужасное («прекрасных чудовищ», по выражению Лидии Гинзбург). Не случайно один из разделов книги, посвященный Надежде Мандельштам, называется «Перечень обид».
Итак, что такое «реальность», с точки зрения текстологии Эммы Герштейн?
• Во-первых, её характеризует специфический бинаризм в трактовке взаимоотношений внешнего мира и субъективности как бинаризм архива/человека, когда «виртуальная реальность» (рациональный человек) сталкивается с «объективной реальностью» в смысле ленинской теории мимесиса как «теории отражения» (разоблачающими свидетельствами архива, текстологии в интерпретации Герштейн). При этом архив понимается как более достоверный, чем иллюзии субъективного самосознания («виртуальной реальности» как аудита she).[265] Особенно выразительным письмо
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
 Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин
Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин
-
 Гость Татьяна30 июнь 08:13
Спасибо. Интересно ...
Дерзкий - Мария Зайцева
Гость Татьяна30 июнь 08:13
Спасибо. Интересно ...
Дерзкий - Мария Зайцева