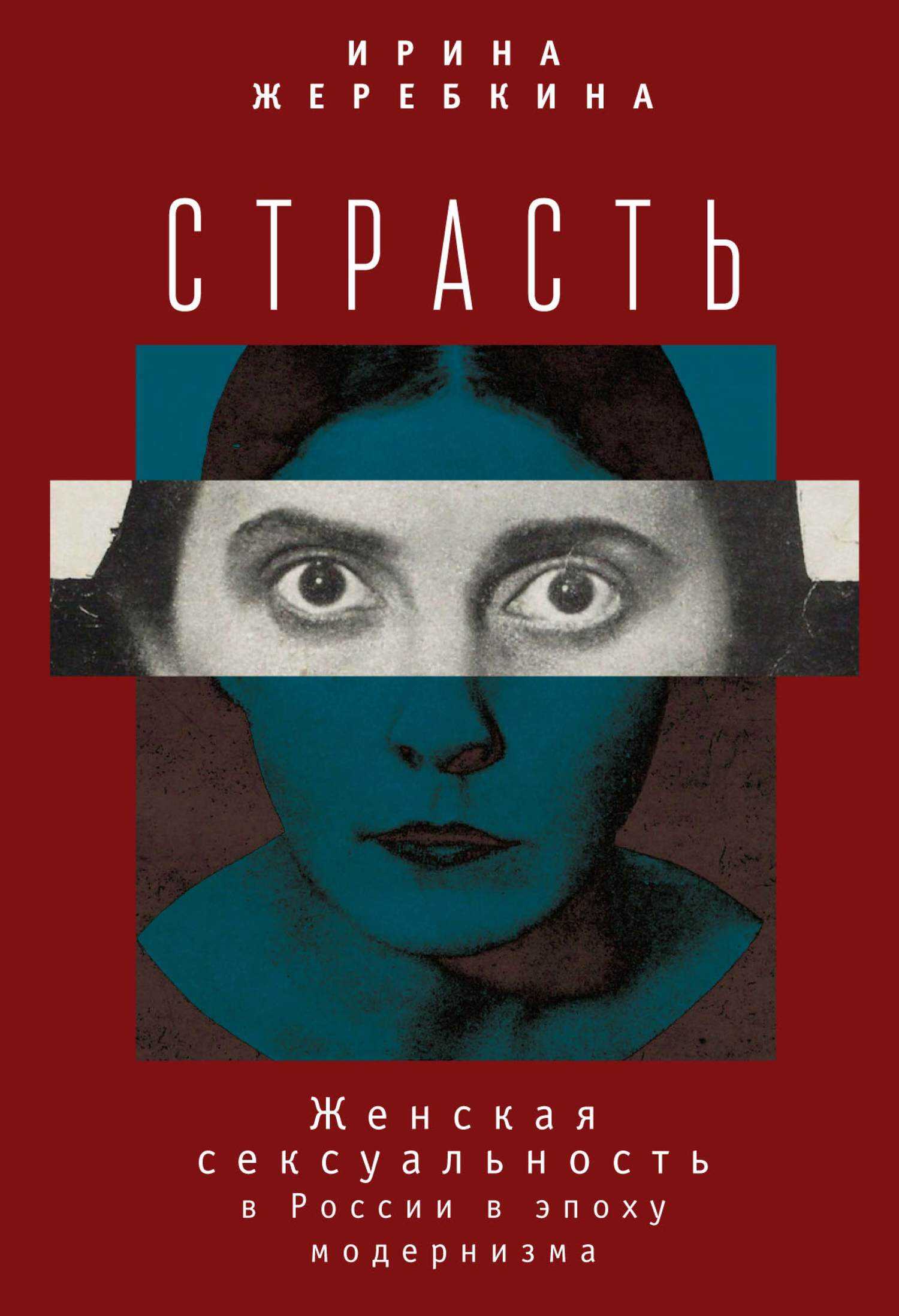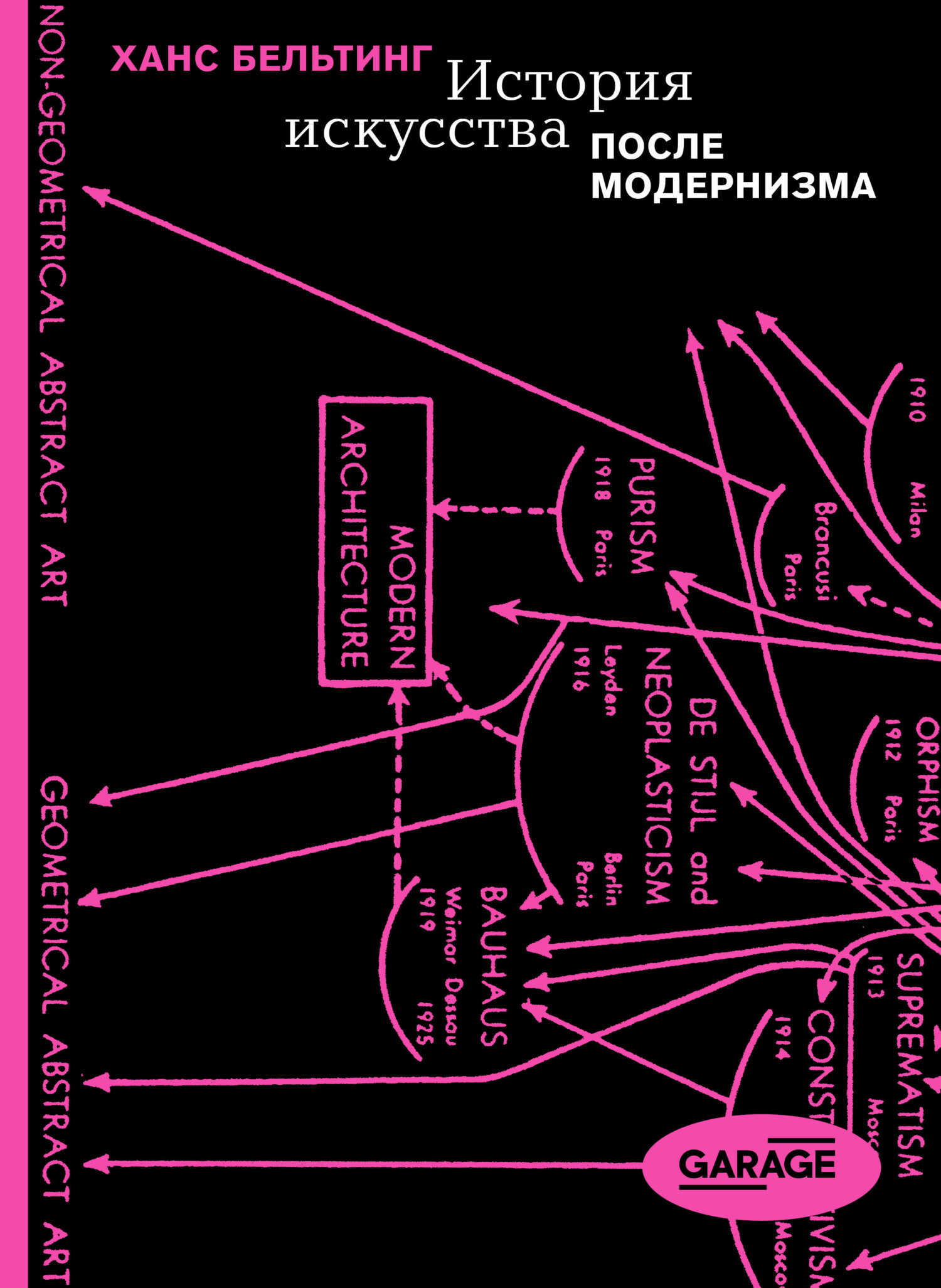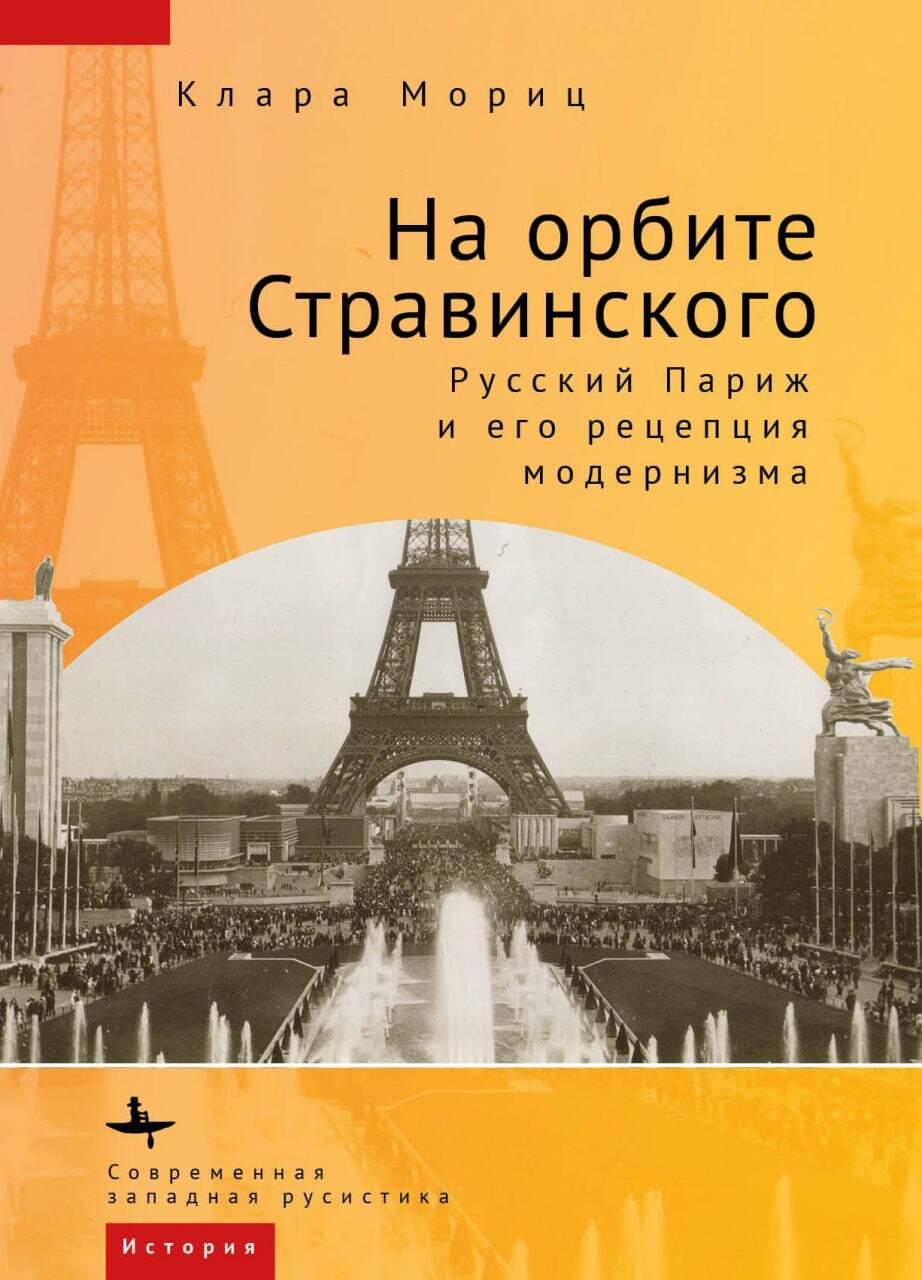Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В отличие от Ходасевича, Мандельштам в начале войны с бо́льшим энтузиазмом откликнулся в своих стихах на военную идеологическую мобилизацию литературы в рамках распространенной тогда панславистской идеи200. Эта идеологическая мобилизация очевидным образом вынуждала скорректировать ключевое для умеренного крыла зрелого модернизма понятие автономности искусства201. В статье «Скрябин и христианство» (1916) Мандельштам отвечает на вызовы времени идеей «христианского искусства», пытаясь совместить ценности умеренного полюса зрелого модернизма и национально-религиозную повестку начала войны в русле концепции translatio studii.
Статья «Скрябин и христианство» стоит в центре дореволюционных размышлений Мандельштама о природе творчества. По воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, еще в начале 1920‑х годов Мандельштам считал, что это «основная <его> статья» [Мандельштам Н. 2014, 2: 128]202. Как справедливо указывают комментаторы первой публикации статьи в постсоветской России, она глубоко укоренена в идеях и реалиях своего времени, то есть создавалась в ответ на идеологический мобилизационный запрос (см. [Мандельштам 1991: 66]).
Задачей своего творчества Скрябин видел создание теургического искусства, предвосхищающего и по-своему приближающего наступление эсхатона203. В некрологической литературе безвременная смерть Скрябина 14 апреля 1915 года нередко воспринималась как подтверждение теургического характера его творчества. Скрябин-Орфей стал видеться «утренней жертвой» или «пророком» наступления новых времен204. В своей статье, однако, Мандельштам культурологически переосмысляет этот раннемодернистский эсхатологизм. Вослед провозвестникам Славянского возрождения на рубеже веков эсхатологическое сознание в начале войны осмысляется им в рамках русской модернистской рецепции идеи translatio studii как будущее осуществление «русского эллинизма».
Как пишет С. Шиндин, эллинизм в статье Мандельштама
парадоксальным образом становится началом, не антитетичным христианству; более того, через категорию смерти эти религ<иозно>-культурные модели оказываются генетически связаны [Шиндин 2017б: 442].
Ход мысли Мандельштама не покажется столь парадоксальным, если увидеть в его словах о «законном наследнике мифов древности – мифе о забытом христианстве» [Мандельштам 2009–2011, 2: 40] отражение взглядов Вяч. Иванова на орфизм как «протоформу христианства» [Силард 2002: 60]. Именно орфизм в античном мире предложил протохристианскую модель по осмыслению смерти как искупления «греховного» отпадения индивидуального от первоначальной цельности. Это орфическое определение смерти перекликается со словами Мандельштама о «христианском искусстве», основывающемся на «эллинизации смерти» [Мандельштам 2009–2011, 2: 41]. Под «эллинизацией смерти» имеется в виду, как кажется, ее «орфеизация» – осмысление в нравственно-религиозных категориях. Таким образом, «забытое христианство» имеет двойную временную перспективу – ретроспективную и проективную, или телеологическую. Ретроспективно оно видится наследником орфизма и проективно соединяет концепции translatio religio и translatio studii в создании «христианским искусством» «русского эллинизма» – мандельштамовского варианта Славянского возрождения.
Мандельштам, как до него и Вяч. Иванов, включает творчество Скрябина в этот религиозно-исторический континуум, в котором Россия наследовала «забытому христианству» Эллады:
Скрябин – следующая после Пушкина ступень русского эллинства, дальнейшее закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа [Мандельштам 2009–2011, 2: 36].
Мандельштам транспонирует телеологию немецкого идеализма на определение Славянского возрождения: процесс саморазвития абсолютной идеи в истории становится «закономерным раскрытием эллинистической природы русского духа». На утверждение Гегеля в «Философии истории» о том, что славяне – «неисторический» народ (см. [Гегель 1935: 97]), Мандельштам отвечает, что «историчность» русского народа заключается в раскрытии в нем «эллинистической природы». Такая модернистская неославянофильская апроприация историософии немецкого идеализма распространялась и на убеждение Гегеля о том, что отдельные исторические личности являются носителями «мирового духа», – «мировая душа <…> верхом на коне» виделась ему в Наполеоне (см. [Гулыга 2008: 51]). Соответственно, как пишет Мандельштам, «эллинистическая природа русского духа» открылась в Пушкине, а затем в Скрябине. Можно предположить, что следующим этапом этого раскрытия Мандельштам видел собственное творчество. В этом отношении в мандельштамовском некрологе Скрябину обнаруживаются жанровые характеристики элегии на смерть поэта, и воссоздание творческого портрета композитора подспудно включало в себя перераспределение его символической власти для собственного творческого самоутверждения. В эту стратегию включается и набрасывание собственного портрета в одном из сохранившихся отрывков статьи при определении искусства как imitatio Christi с проекцией на орфико-дионисийский культ:
<…> виноградников старого Диониса: мне представляются закрытые глаза и легкая, торжественная, маленькая голова – чуть опрокинутая кверху! Это муза припоминания – легкая Мнемозина, старшая в хороводе: с хрупкого, легкого лица спадает маска забвения – проясняются черты; торжествует память – пусть ценою смерти; умереть – значит вспомнить, вспомнить – значит умереть <…> В этом смысле я сказал, что смерть Скрябина есть высший акт его творчества, что она проливает на него ослепительный и неожиданный свет [Мандельштам 2009–2011, 2: 40].
Некрологическое перераспределение власти включает в себя и историко-литературный аспект – статья «Скрябин и христианство», как и другие акмеистические «манифесты» Мандельштама, утверждала ценности умеренного крыла зрелого модернизма в противостоянии теософским интересам Скрябина и его единомышленников205. Н. Мандельштам писала, что был еще один черновик первой страницы статьи с альтернативным названием «Пушкин и Скрябин», который пропал (см. [Мандельштам Н. 2014, 2: 128]). Как кажется, название «Скрябин и христианство» более определенно выражало эти полемические коннотации. Если, как в вышеприведенном отрывке, название «Пушкин и Скрябин» обозначало поступенчатое «закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа», то «Скрябин и христианство» звучало скорее как противительная конструкция, где «христианское искусство» преодолевало раннемодернистский религиозно-эстетический синкретизм Скрябина.
Итак, телеология «дальнейшего закономерного раскрытия эллинистической природы русского духа» включала в себя и самоисполняющееся пророчество по воплощению в собственном творчестве этого «раскрытия». Последующим этапом воплощения этого пророчества было посмертное восприятие творчества Мандельштама как едва ли не высшего воплощения русской античности в ХX веке206. В таком восприятии статья «Скрябин и христианство» имела особое концептуальное и даже «иконическое» значение. С точки зрения рецептивного подхода (см. [Гадамер 1991: 289]) ее «отрывочность» стимулировала коммуникативное участие читателя (или «сотворчество») в воссоздании ее семантической ткани. Такая невольная форма активизации читательского сотворчества корреспондировала с активизацией креативного аспекта рецепции модернистских произведений при помощи их сознательной фрагментизации. Фрагментизация письма эксплицировала ключевой инновативный аспект эстетической коммуникации в модернизме, заключающийся в перераспределении власти от автора к читателю (процесс, достигающий кульминации в идее «смерти автора» в постмодернизме, см. [Барт 1989: 387–390]). То, что статья сохранилась не полностью и требовала собирания фрагментов для воссоздания ее смысла, соотносилось с ее содержательной проекцией на миф о спарагмосе Диониса-Загрея и Орфея. Это «собирание» фрагментарного/растерзанного тела поэзии/поэта станет ключевой темой эпитафии Ахматовой «Я над ними склонюсь, как над чашей…», где «над ними» отсылает к разрозненным рукописям Мандельштама (см. Заключение).
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Юлия08 ноябрь 18:57
Хороший роман...
Пока жива надежда - Линн Грэхем
Гость Юлия08 ноябрь 18:57
Хороший роман...
Пока жива надежда - Линн Грэхем
-
 Гость Юлия08 ноябрь 12:42
Хороший роман ...
Охотница за любовью - Линн Грэхем
Гость Юлия08 ноябрь 12:42
Хороший роман ...
Охотница за любовью - Линн Грэхем
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер