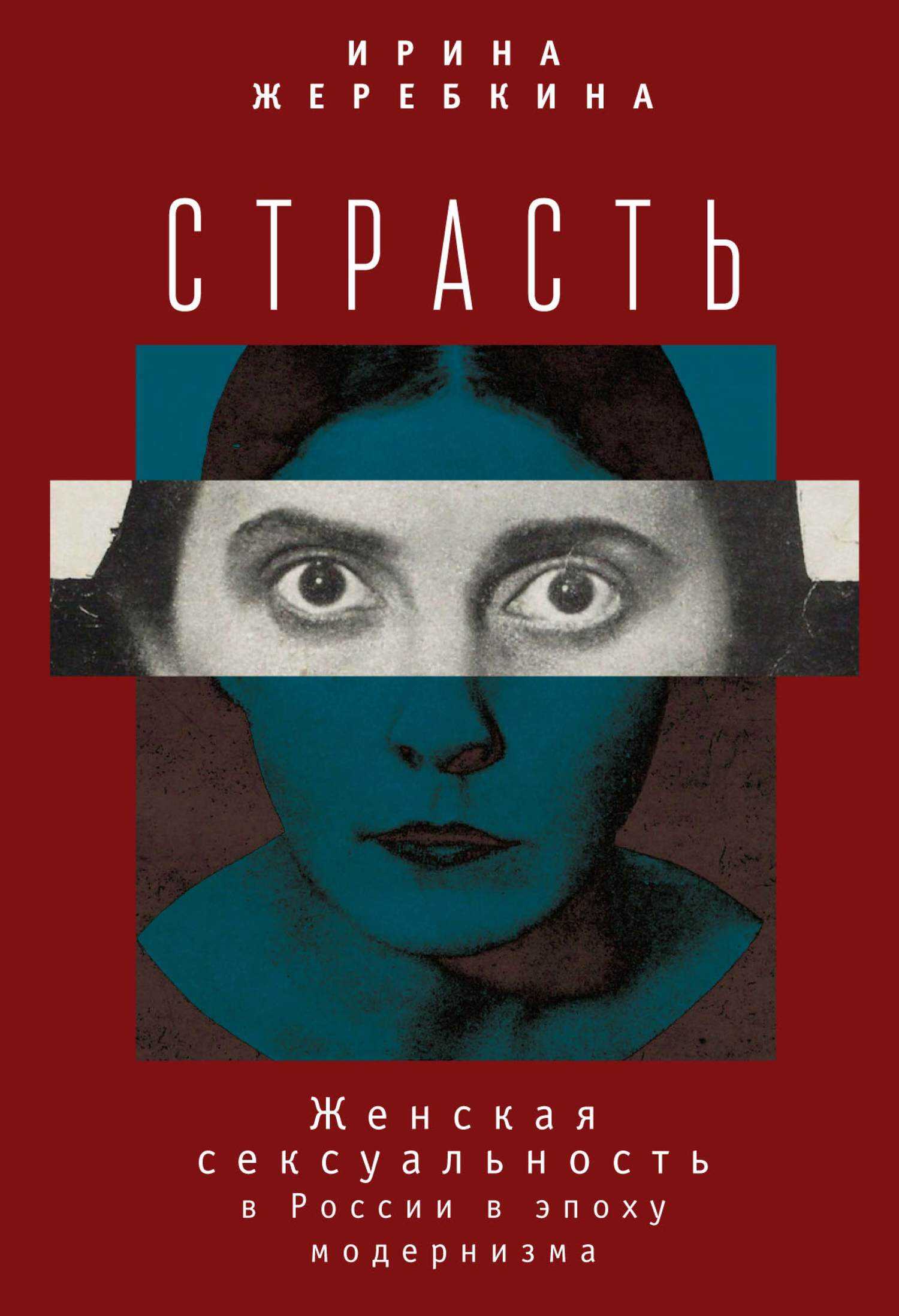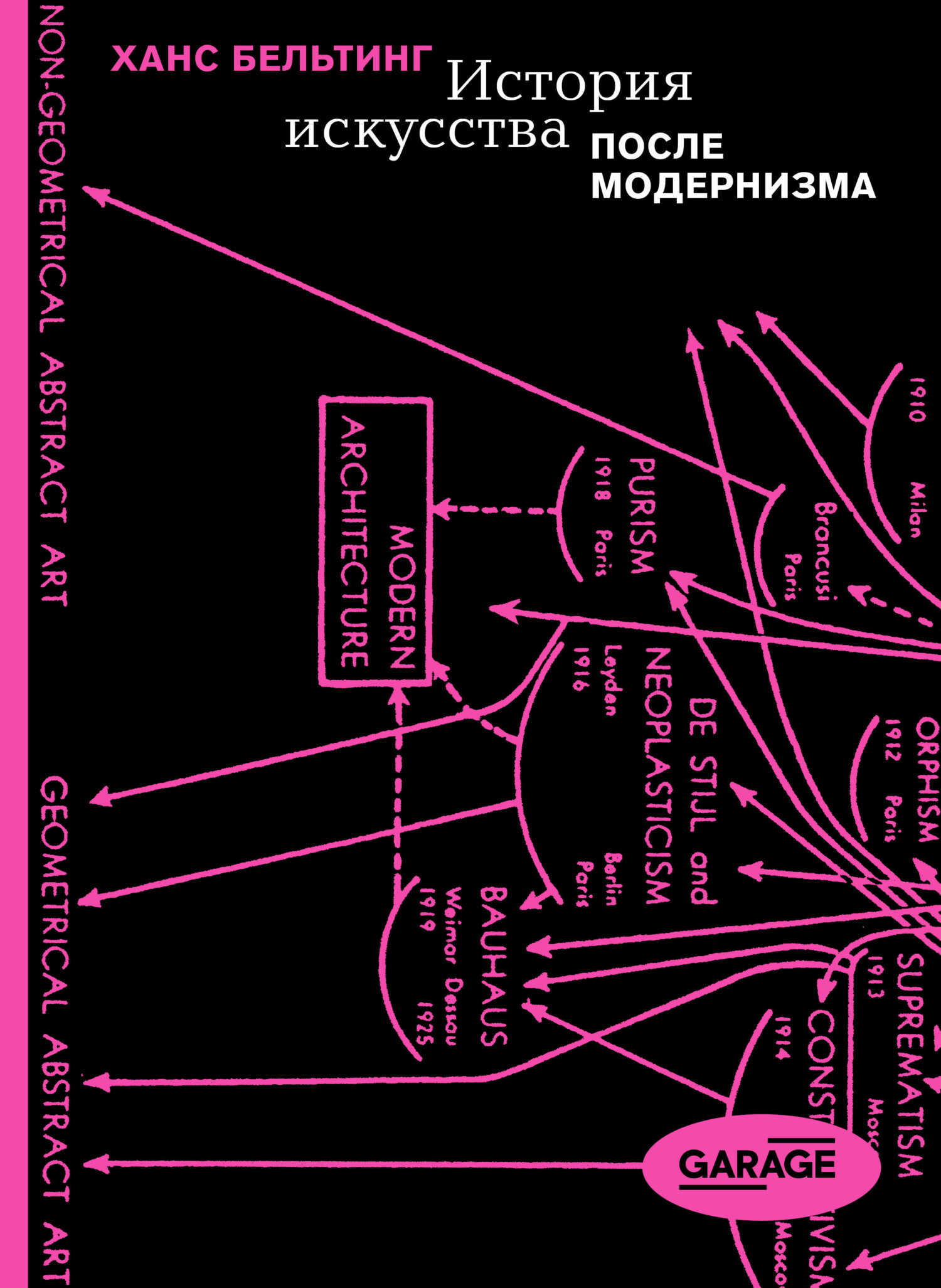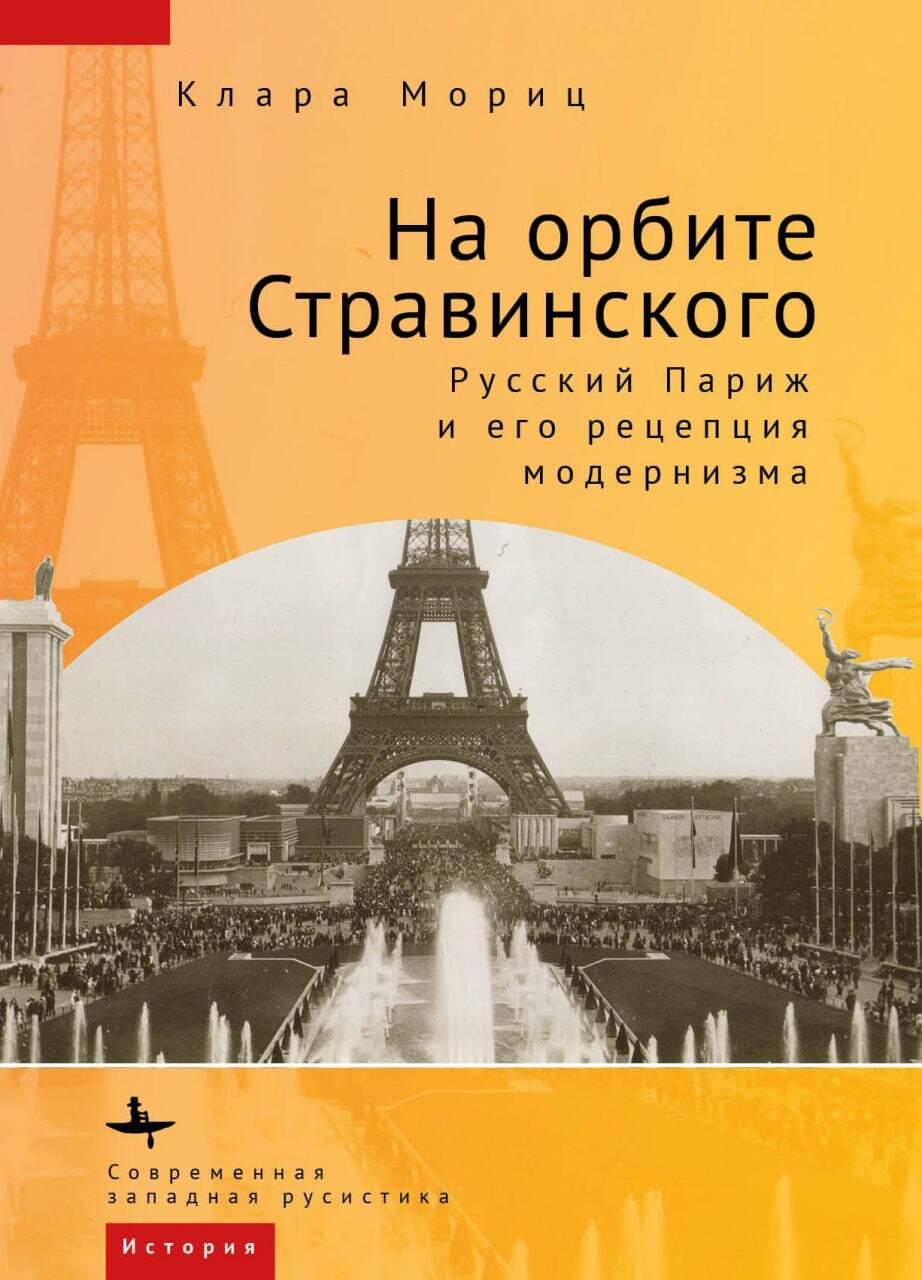Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Думается, что ритмическую разработку двух ходасевических стихотворений следует также включить в рассматриваемый диалог с Белым. За несколько лет до создания этих стихотворений Белый написал и напечатал пионерскую работу по ритмической структуре русского четырехстопного ямба. О впечатлении, которое произвело на Ходасевича открытие Белого, он пишет в «Некрополе»:
Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого [Ходасевич 1996–1997, 4: 53].
Кстати, «повивальной бабкой» теории Белого была книга Н. И. Новосадского «Орфические гимны»:
В своих исследованиях Белый больше всего обязан методологии Н. И. Новосадского, который в своей книге «Орфические гимны» (Варшава, 1900) подверг статистическому анализу ритмические вариации древнегреческого гексаметра [Тарановский 2000: 315].
Сам Белый пишет об этом в книге «Символизм» (см. [Белый 1910: 596–597]). Здесь он утверждает, что работа по анализу ритмических вариаций «Орфических гимнов»
должна быть произведена и над отечественными поэтами; только в таком случае устанавливается точный вывод относительно формы лирического произведения [Белый 1910: 597])197.
После открытия этого закона сознательный подход к разработке ритмической линии стихотворения будет характеризовать поэтическую практику Ходасевича198; и это в результате приведет к заслуженной оценке специалиста, что четырехстопный ямб Ходасевича «отличается замечательной ритмической гибкостью и разнообразием» [Левин 1998: 264].
В воспоминаниях Ходасевича упоминается контекст, который может пролить дополнительный свет на полемичную интонацию, слышащуюся в стихотворении «Века, прошедшие над миром…». Речь идет о том, что после своего открытия Белый
вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены [Ходасевич 1996–1997, 4: 53].
Ходасевич оспаривал это игнорирование взаимосвязи семантики стихотворения с его ритмикой и в своем творчестве стремился достичь их органической связи.
На нескольких примерах можно показать, как в паре «Века, прошедшие над миром…» – «Жеманницы былых годов…» скоординирован их ритмико-смысловой ряд. В первом стихотворении стро́ки «В их безутешную обитель / Свой упоительный рассказ», по терминологии Белого, образуют фигуру «квадрата», то есть симметричного ускорения на первой и третьей стопе в смежных строках, что, по словам Белого, «звучит для уха особенно гармонически» [Белый 1910: 265] и, значит, соответствует «упоительному рассказу» Орфея. Стихотворение «Жеманницы былых годов…» с его лексикой пушкинской эпохи ритмически ориентируется на четырехстопный ямб XVIII века. Так, кроме строки с пушкинской формулой «я посетил» и четных строк последней строфы, которую можно назвать «тютчевской», во всем стихотворении первая стопа ударна с соответственными более частыми ускорениями на второй стопе. Функцию этой своеобразной лексико-ритмической нестыковки можно объяснять по-разному, говорить и о воздействии поэтических опытов старших современников, так как влияние ритмики XVIII века в четырехстопном ямбе испытывали в начале ХX века Брюсов и Белый199. Хочется обратить внимание, что эта нестыковка может нести ту же функцию, что и пушкинские стилистические нормы, примененные в книге Ходасевича «Державин» (1931). Как впоследствии в этой книге, в «Жеманницах былых годов…» происходит легкая архаизация материала за счет доступных в каждом случае средств: для читателя «Державина» его время «остраняется» через стилистическую призму начала XIX века – применение стилистических норм XVIII века чувствовалось бы уже пастишем (см. [Зорин 1988: 19–20]). «Жеманницы былых годов…», в свою очередь, архаизируются ритмически, так как ритм пушкинского четырехстопного ямба вместе с лексикой того же времени звучал бы для читателя начала ХX века более нейтрально и не происходило бы эстетической деавтоматизации восприятия.
Таким образом, культурологическая и авторефлексивная перекодировка орфического мифа позволила Ходасевичу определить свою позицию в сложном литературном поле начала 1910‑х годов. «Орфеев путь» теперь означал не мистическо-религиозное предназначение поэзии, но ее задачу по «воскрешению» культурного прошлого. Орфическая «неудача» также переосмысляется как неверное определение приоритетов в диалоге современной поэзии с литературной традицией. «Суетность» речи «потомков» заключалась в их попытках воскресить прошлое на потребу современных идеологических и общественно-литературных тенденций. Такой «оглядке» Ходасевич противопоставляет сознательную историческую дистанцию, выраженную среди прочего в пространственно-темпоральной дистанцированности от предметов прошлого в его стихотворениях. Как мы уже не раз видели, такое утверждение четких эстетических и онтологических и – в данном случае – физических границ отличало умеренное крыло модернизма от стремления к размыванию и/или преодолению границ, характеризующего его радикальное крыло. Как Дженни утверждала непроницаемость границы между двумя мирами, так типологически сходным образом в «Жеманницах былых годов…» утверждается сингулярность и самоценность историко-культурных формаций прошлого.
Интересно, что орфический миф, столь разнообразно задействованный в конце первой части книги, не выступает на передний план во второй и третьей части «Счастливого домика». Как уже было сказано, в этой книге миф об Орфее нес особую авторефлексивную задачу по определению перехода от раннего к зрелому модернизму. Вместе с тем переосмысление орфической «оглядки» в «неоглядку», в утверждение четких онтологических и эстетических границ показывало отличие умеренного крыла модернизма от радикального.
Следующим этапом, когда орфическая образность вновь сделается наиболее востребованной для определения своей позиции, станет начало 1920‑х годов – время написания орфических стихов Мандельштама и «Баллады» (1921) Ходасевича. Революционное время, вновь, как и в начале века, актуализирует эсхатологическую парадигму модернизма. Поэт-Орфей вновь станет провозвестником грядущей революции духа. Кроме того, масштабный социальный катаклизм, разрыв с прошлым культурным наследием и европейской гуманистической традицией потребует обновленной поэтической рефлексии о своей культурной роли. В умеренном крыле зрелого модернизма актуализируется культурологический потенциал орфического мифа в рамках идеи translatio studii – элементы орфического мифа будут тематизировать историю переноса европейского культурного наследия в Россию вообще и в современную революционную Россию в частности, где поэт-Орфей будет выступать трагическим воплощением этой задачи.
«Миф о забытом христианстве»
Орфизм в статье О. Мандельштама «Скрябин и христианство» в контексте эпохи
Как мы видели на примере «мышиных стихов», Ходасевич попытался отстраниться от идеологической мобилизации в начале Первой мировой войны. Пусть затем он «исправился» и осознал «величие момента», что видно по его переписке с С. Киссиным (см. [Ходасевич 1996–1997, 4: 396]), идеологическая мобилизация только косвенно затронула его творчество. Его наиболее значимое поэтическое высказывание о войне – стихотворение «Слезы
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Юлия08 ноябрь 18:57
Хороший роман...
Пока жива надежда - Линн Грэхем
Гость Юлия08 ноябрь 18:57
Хороший роман...
Пока жива надежда - Линн Грэхем
-
 Гость Юлия08 ноябрь 12:42
Хороший роман ...
Охотница за любовью - Линн Грэхем
Гость Юлия08 ноябрь 12:42
Хороший роман ...
Охотница за любовью - Линн Грэхем
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер