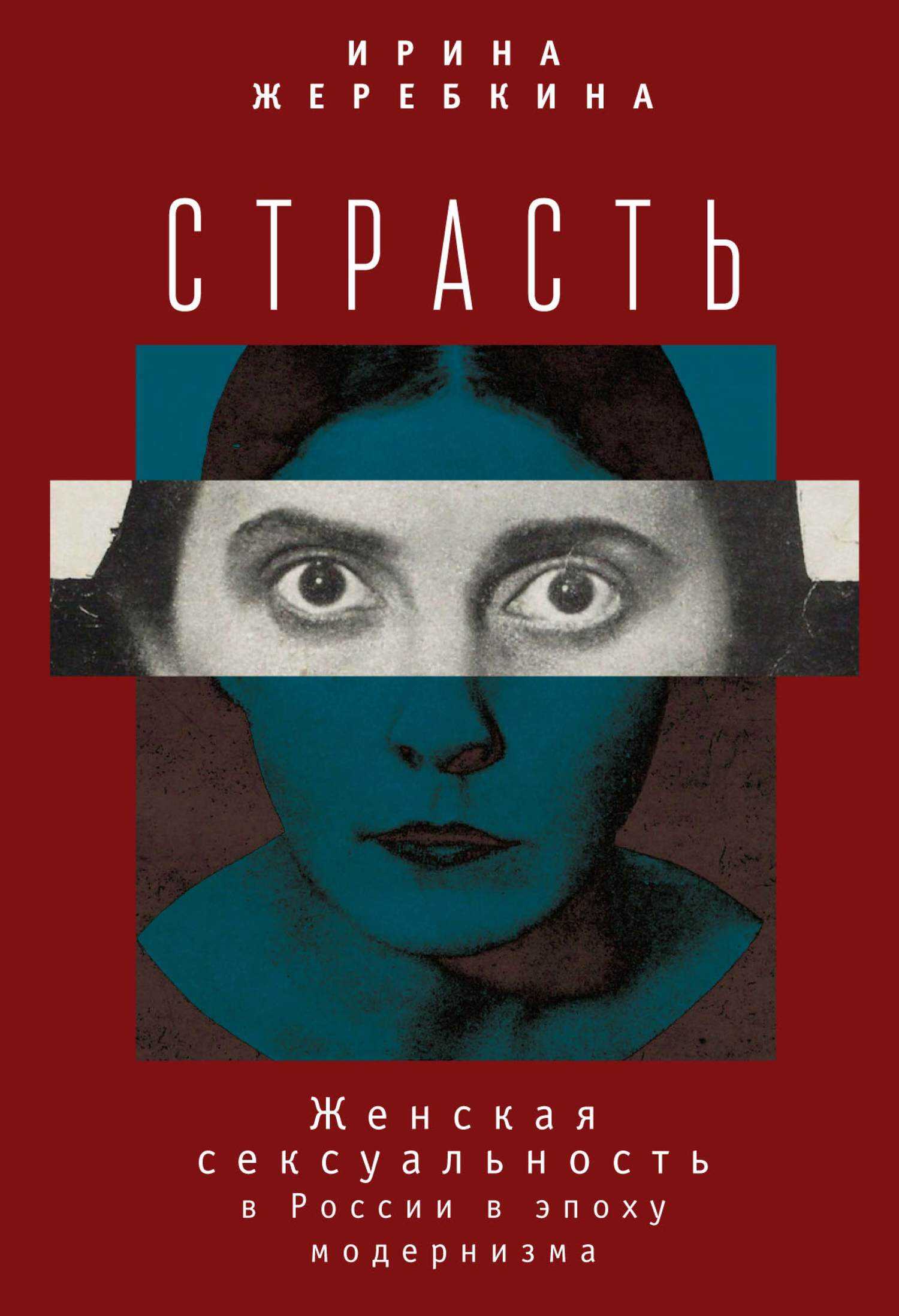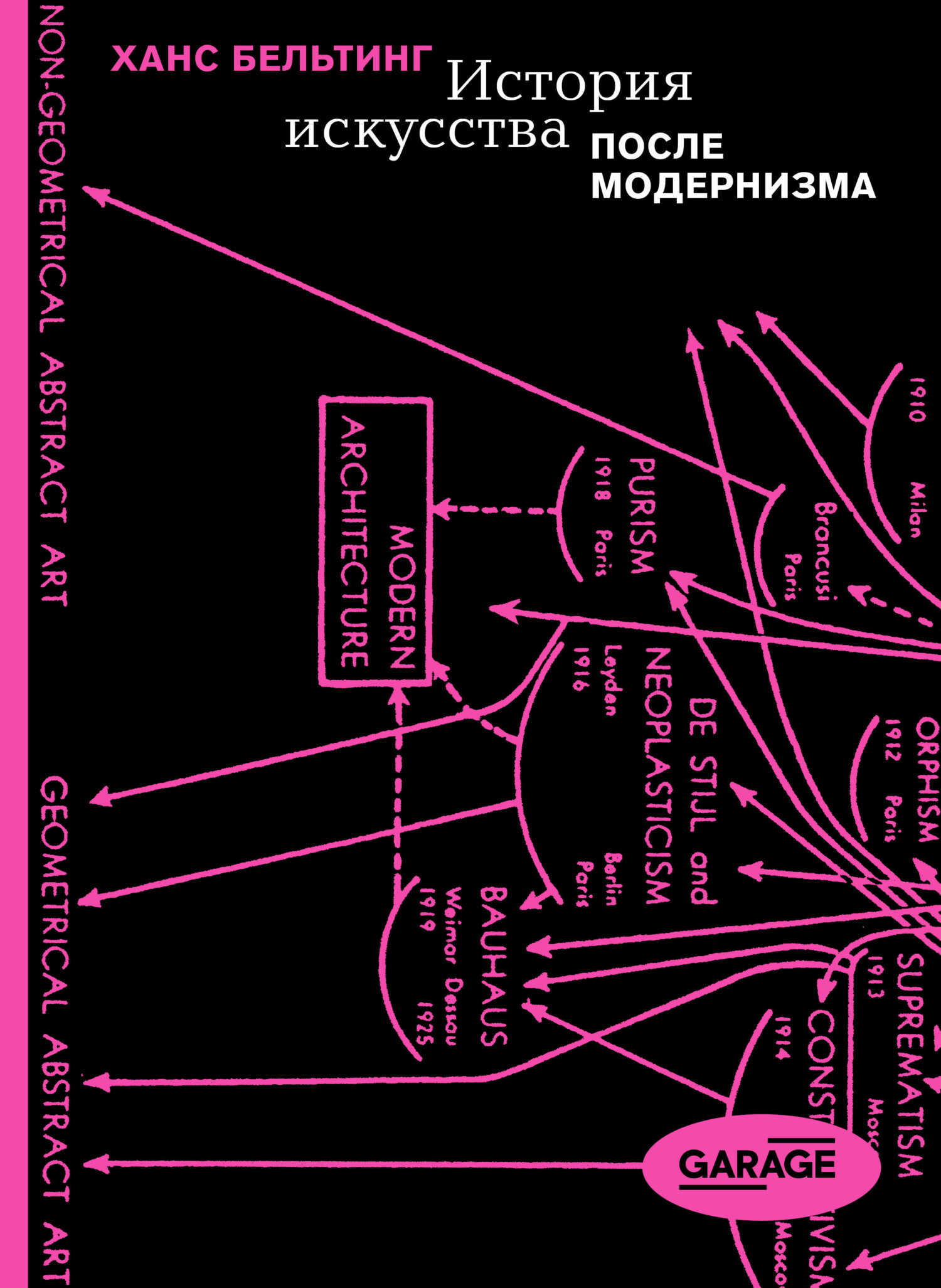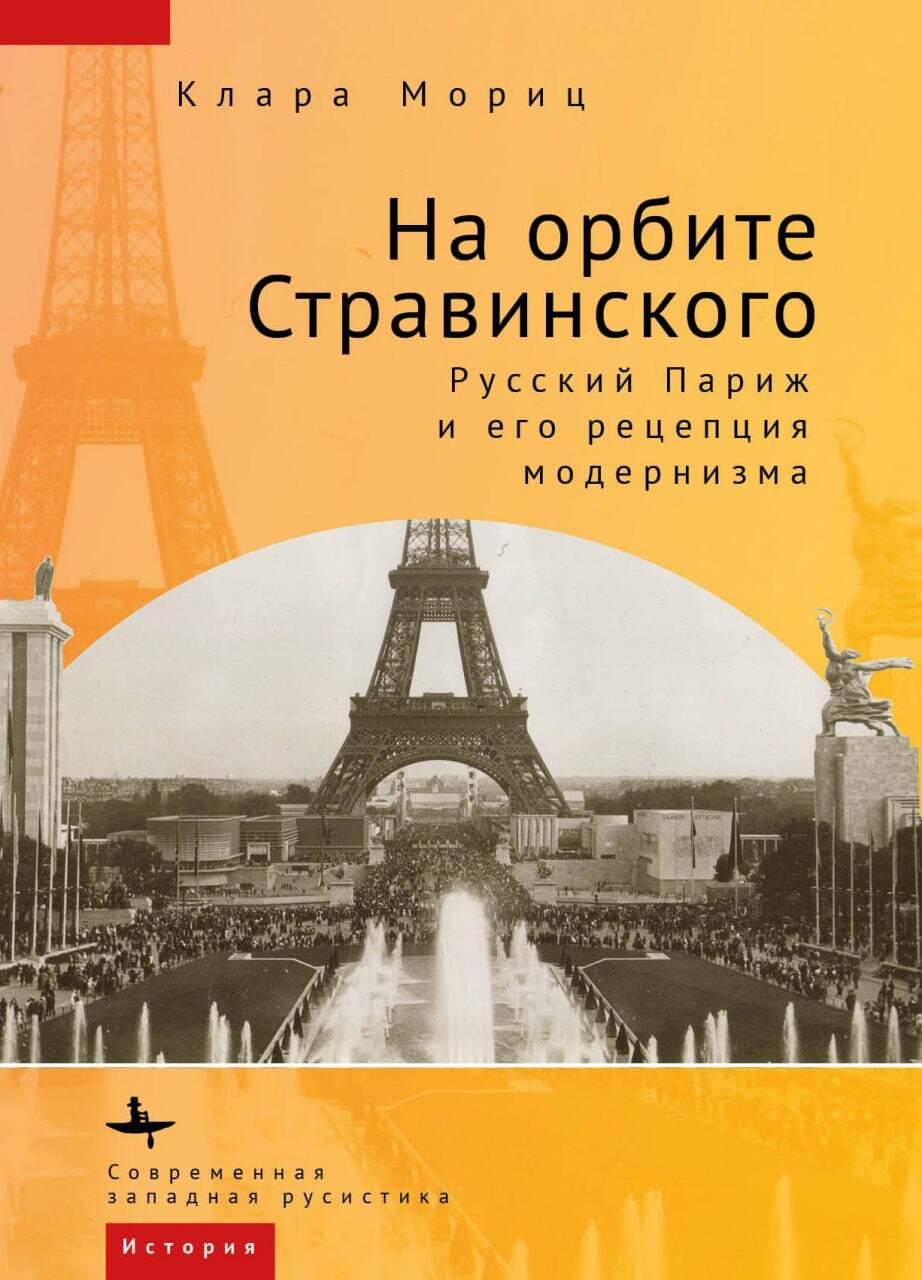Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Перед нами поэт интересный и своеобразный. В движении стиха его есть уверенность, в образах – содержательность, в эпитетах – зоркость. В каждом стихотворении Гумилев ставит себе ту или иную задачу и всегда разрешает ее умело. Он уже не холоден, а лишь сдержан, и под этой сдержанностью угадывается крепкий поэтический темперамент.
У книги Гумилева есть собственный облик, свой цвет, как в отдельных ее стихотворениях – самостоятельные и удачные мысли, точно и ясно выраженные [Там же: 415].
Эти строки наиболее четко описывают новую «умеренную» программу модернизма Ходасевича, в основе которой нахождение наиболее выразительных художественных средств для полноценного решения той или иной эстетико-идеологической задачи. «Зоркость» Гумилева затем повторится при характеристике другого поэта: «Нам понравились стихи Павла Радимова, поэта вдумчивого и зоркого» [Там же: 420]. В этом отношении эпитет «зоркий» для определения внимательного и «проницательного» визуального познания действительности несет метадескриптивную характеристику «новой» поэтики в стихах Ходасевича этого времени: «Я каждый шаг твой зорко стерегу»; «Как шаровидная молния, сердце опасно – / И осторожно, и зорко, и тихо, как мышь».
Упорный труд над поэтическим словом, умение использовать различные литературные традиции, достижение максимальной художественной выразительности за счет соответствия формальных средств художественной задаче Ходасевич оценил в книге Н. Клюева «Сосен перезвон»:
В первой его книге внимательный читатель различит следы упорного труда, желания во что бы то ни стало подчинить себе стих, заставить слова выражать именно то, что надо. Для этого он равно пользуется как приемами и языком народной песни, так и языком поэтов: Тютчева, Брюсова, Блока [Ходасевич 1996–1997, 1: 419].
Такая система оценок – в ее позитивном или негативном применении – ложится в основу эстетических критериев Ходасевича и напрямую соотносится с его «зрелой» поэтической практикой. Нужно сказать, что сам стиль статьи – сжатый, рациональный, афористичный – резко отличается от размытого, крайне субъективного, «импрессионистического» стиля его критики 1900‑х годов.
Здесь же Ходасевич выступает против узурпации радикальными модернистами понятий новизны и оригинальности, что позволит им и их солидарным читателям представить «исторический авангард» (в терминологии Бюргера) как особый – более «новаторский» – исторический этап современного искусства, пришедший на смену модернизму:
Ни московский, ни петербургский футуризм в наиболее существенных чертах своих не могут претендовать ни на оригинальность, ни на новизну [Там же: 421].
Подход Ходасевича к двум ветвям русского футуризма – кубофутуристам и эгофутуристам – тоже сугубо литературоцентричный и обусловлен неоклассицистическим пониманием задач литературной критики: «„Непреодолимая ненависть“ к существующему языку <…> выводит их поэзию за пределы критики» [Там же: 422]. Это ограничение сугубо нормативным пониманием словесного ряда позволяет Ходасевичу вывести всевозможные трансгрессивные и интермедиальные практики футуристов за рамки литературы. Что же остается от футуристической художественной продукции после такого ее нормативного просеивания?
Поэтов с дарованием значительным нет среди москвичей-футуристов. Недурные строчки встречаются у В. Хлебникова, В. Маяковского, Д. Бурлюка. Прочие или недоступны человеческому пониманию, ибо пишут исключительно на языке «дыр-был-щур» или бесконечно повторяют друг друга [Там же].
Напомню, что сходный умеренный, рациональный путь Ходасевич затем будет утверждать и в одном из своих поэтических манифестов первой половины 1920‑х годов «Жив бог! Умен, а не заумен…» (1923), выводя «заумь» за рамки человеческого разумения и человеческого творчества187.
В статье «Игорь Северянин и футуризм» (1914) Ходасевич продолжит критику узурпации футуризмом новаторских принципов нового искусства:
Я не буду говорить о законности или незаконности его возникновения как протеста против удушливой власти традиции, – между прочим, потому, что такой протест является одной из причин возникновения всех новых течений в искусстве [Там же: 425].
Критика гипостазирования футуристами собственного «беспрецедентного» новаторства, выделяющего их из общего поля «нового» искусства в качественно новую историко-эстетическую формацию, производится Ходасевичем по нескольким пунктам:
Разрушение синтаксиса, во-первых, не ново, ибо о нем говорил уже Стефан Малларме, а во-вторых, в полном объеме, да еще, так сказать, катастрофически, – неосуществимо, ибо неминуемо поведет к тому, что мы просто перестанем понимать друг друга. Можно предположить, что со временем психология осветит нам природу синтаксиса и откроет возможность углубления и пересоздания его; но пока что мы можем лишь частично расширять слишком тесные рамки академического синтаксиса, что и делают, и делали, в исторической последовательности, не только выдающиеся писатели, – у нас, начиная от Ломоносова и кончая Бальмонтом, – но и сама повседневная речь, все больше и больше стремящаяся к лаконизму и выразительности [Ходасевич 1996–1997, 1: 426–427].
Ходасевич прежде всего указывает на преемственность их бунта по отношению к бунтам раннего модернизма, в частности в творчестве Малларме188. Он указывает также на проявления в их творчестве, может быть в более радикальной форме, общей тенденции современного искусства – стремления к лаконизму и интенсивности. Наконец, радикальному разрыву с синтаксисом он противопоставляет умеренное расширение «тесных рамок академического синтаксиса». Претензии Ходасевича к футуризму не универсальны, но представляются критикой одной фракции модернизма другой:
Докажем футуризму, что и мы – не наивные провинциалы, принимающие всерьез их невинные, их микроскопические дерзости.
Больше нет футуризма. И это не я говорю вам, а это носится в воздухе, это вы сами давно ощущаете… [Там же: 432]
Ходасевич здесь полуиронически использует метод самих футуристов. Как они дерзко отменяли бывшее до них – и современное им – «нефутуристическое» искусство, так и Ходасевич отменяет футуризм с точки зрения более инновативных, по его мнению, эстетических установок, за которыми будущее. Эта своеобразная программность заявлений Ходасевича, по-своему апроприирующая жанр футуристического манифеста с точки зрения умеренного крыла зрелого модернизма, коррелирует с окончанием стихотворения «Жеманницы былых годов…»: «О пусть отныне жизнь мою / Одно грядущее волнует!», сходным образом апроприирущим модус будущего у будетлян.
«Отменив» футуризм, Ходасевич, однако, не «отменяет» отдельных поэтов (в данном случае Северянина), собравшихся под его знаменами. В этом вновь проявляются принципы умеренного модернизма, предпочитающего эстетическую автономию коллективистским проектам. По мнению Ходасевича, главным содержанием поэзии Северянина является «чувство современности, биение ее пульса. Если необходимо прозвище, то для Игоря Северянина следует образовать его от слова praesens – настоящее» [Там же: 434]. Сейчас бы мы назвали это «чувство модерности»; в попытке его поэтического выражения Ходасевич видит близкое ему самосознание современного/модернистского поэта – поверх групповых деноминаций.
В конце статьи «Русская поэзия. Обзор» Ходасевич отмечает, однако, разницу между «поверхностным» восприятием современности Северянина (и других футуристов) и своим поиском ее «истинного» содержания:
Нужно только
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт