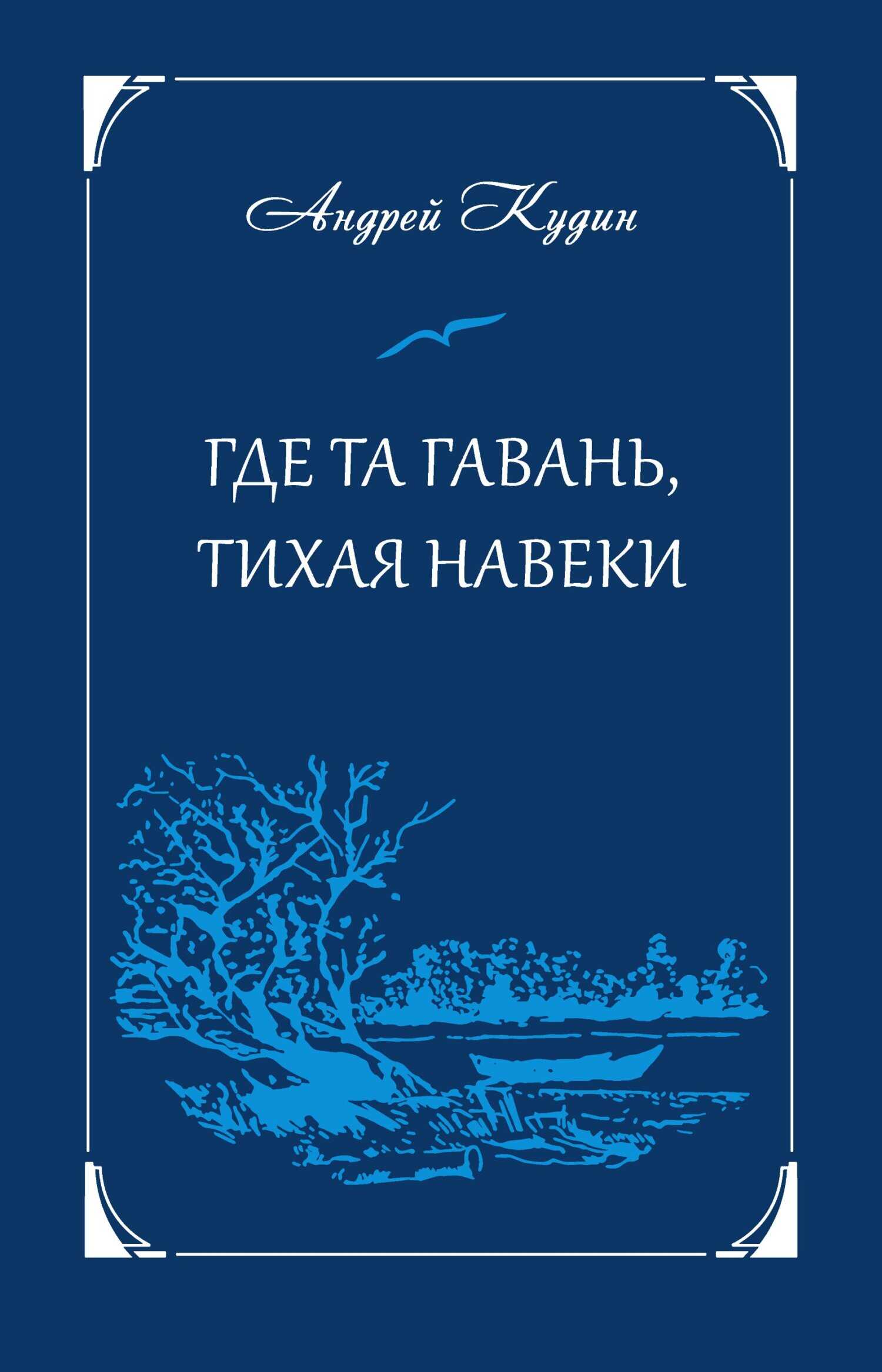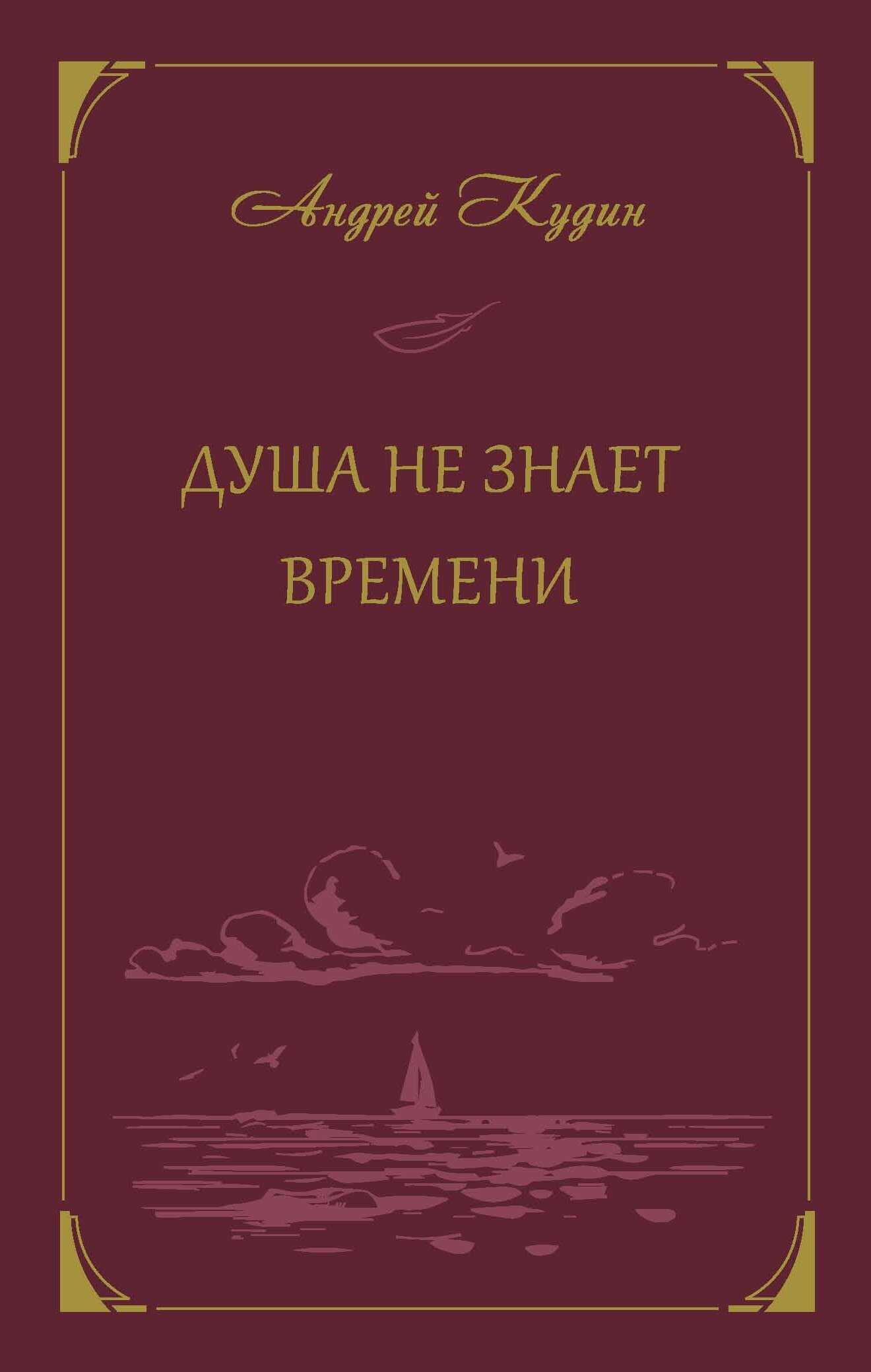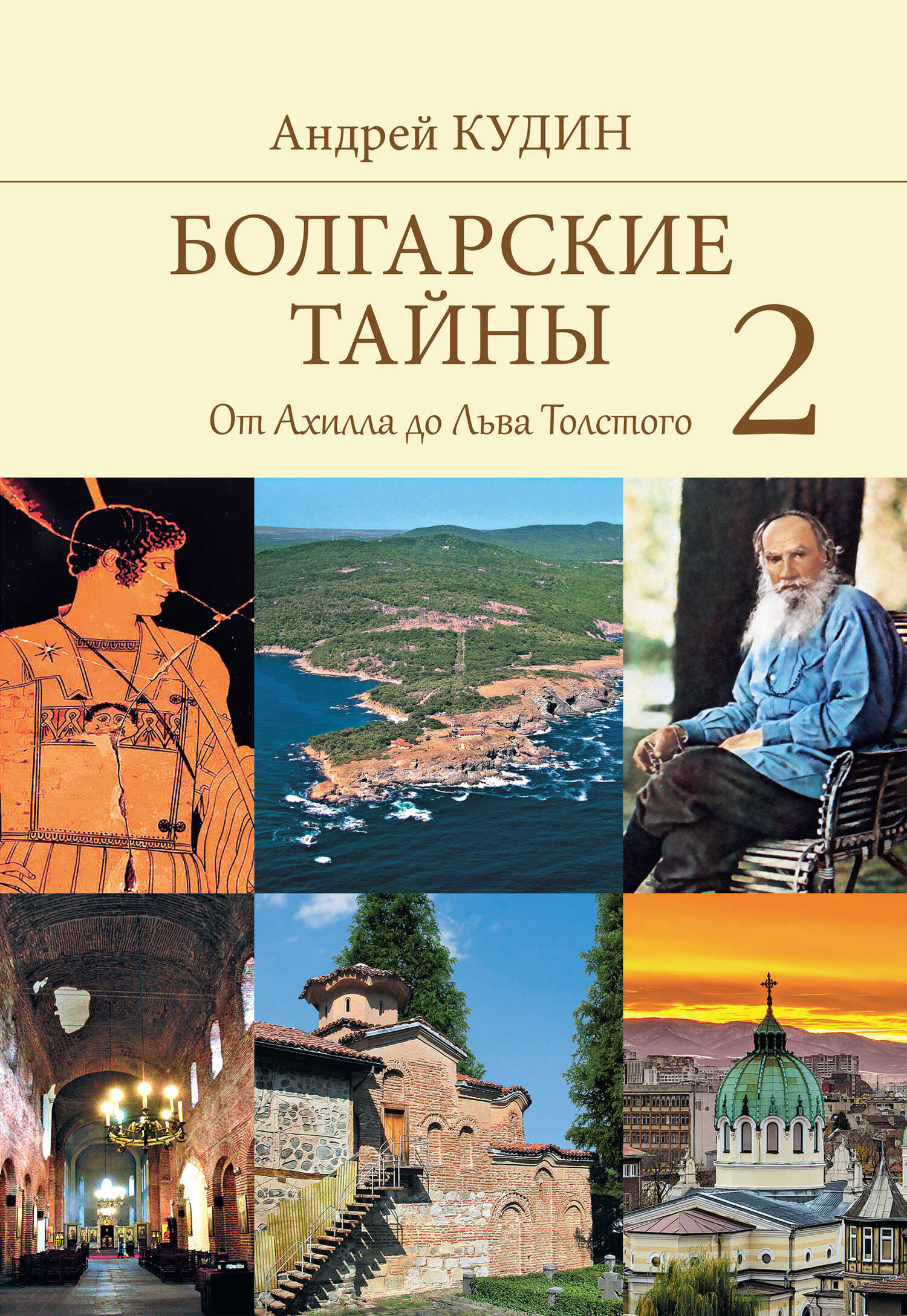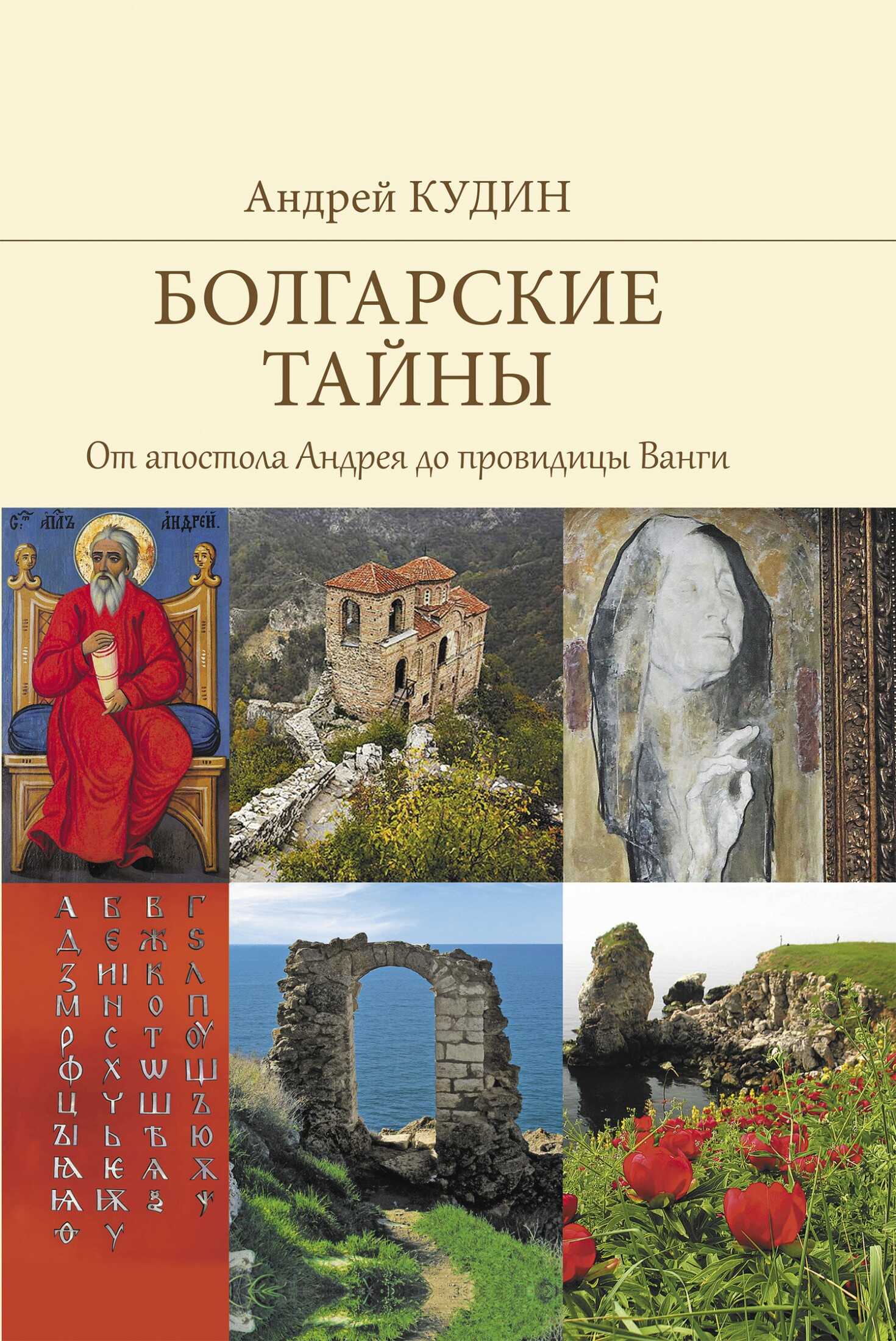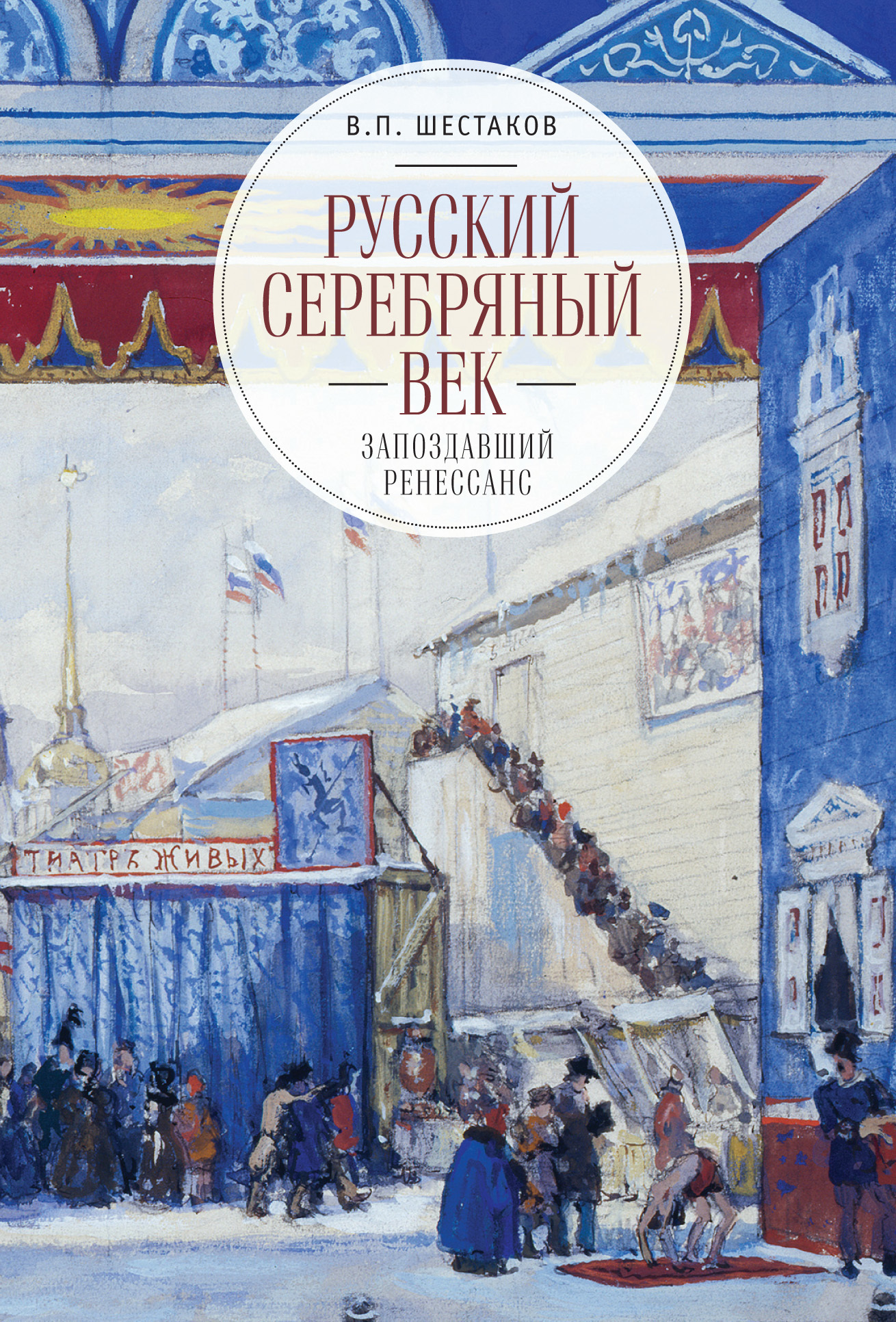Византийско-русский синтез в каменных храмах Киева (конец X – XI в.) - Андрей Павлович Кудин
Книгу Византийско-русский синтез в каменных храмах Киева (конец X – XI в.) - Андрей Павлович Кудин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эта модель, восторжествовавшая в византийском обществе, с его пристрастием к порядку и стилизованной формализации жизни, и эти принципы отразили новые идеалы богослужения, в котором усложненные прежние конструкции были вытеснены четкими символическими формулами с превалированием антифонов как звуковой основы литургии.
Доминирование богословия о Втором Лице Троицы, Логосе, определило акцент на христологической тематике: она преобладает в храмовых росписях вплоть до XIV в. Связь с учением об Иисусе Христе наблюдается и в оформлении богословия иконопочитания. В соответствии с ним образ – отражение Первообраза, не Его сущности, но нетварной энергии. Боговоплощение неполноценно, если Христос не изобразим. Изображаются не природы Христа, а Его личность. Икона Христа – символ Боговоплощения, как литургия – символ Его жертвы.
Из доктрины иконопочитания вытекали три тезиса, имевшие существенное значение для системы храмовых росписей: 1) изображение, созданное в правильной манере (в соответствии с каноном), является благодатной копией Первообраза; 2) изображение достойно поклонения, образ не существует вне связи с поклоняющимися; 3) каждый образ имеет свое место в священной иерархии.
Первое и главное условие существования образов в соответствии с этими тезисами – фронтальность. Неслучайно самые первые храмовые росписи постиконоборческого периода состояли исключительно из отдельных фронтальных фигур. Однако в росписи, ориентированной на буквальное воспроизведение событий спасения, необходимо изображать сами эти события, т. е. евангельские сцены, где нельзя ограничиться фронтальным расположением. И, как отмечает Г. С. Колпакова, «византийские художники нашли гениальный выход из положения. Они стали располагать живопись в нишах (конхах, тромпах, арках, сводах) на изогнутых поверхностях, где фигуры могли взаимодействовать друг с другом, не теряя своей достойной фронтальности. Размещаясь на боковых плоскостях вогнутых поверхностей и находясь друг против друга, фигуры объединялись в сцены реальным пространством, “вливающимся” в границы композиции. Находящееся в вогнутой нише или своде, оно становилось местом композиционного согласования священных персонажей и местом их сакрального собеседования»[27].
Внутренний объем храма отвечал второму требованию, вытекавшему из доктрины иконопочитания, – позволял осуществить связь молящегося с изображениями (поклонение образам). Храмовый интерьер, оставаясь местом встречи, превратился и в место их сакрального единения с верующими. Идентичность реального и сверхреального пространства уподоблялась здесь непостижимой идентичности образа и Первообраза. Достигнутый в результате эффект пространственной однородности – не случайная находка византийских монументалистов, а осознанная закономерность, к которой Византия стремилась на протяжении всего предшествующего развития. К IX в. этот принцип был доведен до своего логического предела – пространство в храмовой росписи стало единым, и для всего изображенного, и для зрителя. Пространство не принадлежит телам, пластическим объемам, как это было прежде.
Благодаря общему с изображениями месту пребывания, молящийся ощущал себя очевидцем священных событий. Он физически включался в огромное пространство-образ, каким становилась церковь. Закон наглядности, буквализма в совмещении сакрального и реального, восторжествовавший в IX столетии в прочтении Божественной литургии, стал одновременно главным принципом монументальной декорации храма. По замечанию О. Демуса, «начальный этап истории храмового декора македонского времени определил направление ее дальнейшего развития. Самостоятельные фигуры, из которых состоял величественный образ наоса, были первыми выдающимися примерами магического реализма новой иконографии»[28].
Необходимо отметить, что церковная живопись византийского храма в ее классическом виде не преследует цели дидактического научения, это не книга, наставляющая неграмотных. Она не воодушевлена повествованием, не стремится вызывать эмоции, не хочет заинтересовать или устрашить. Будучи зримым воплощением литургии, она призвана давать чувство спокойной религиозной уверенности обретенного спасения, которое не оставляет места для душевных или моральных проблем.
Это было одним из следствий литургической реформы, произошедшей в несколько этапов после восстановления иконопочитания. На протяжении VIII–IX вв. окончательно оформилась последовательность богослужений. Место сложных репрезентативных форм богослужения Великой церкви (Софии Константинопольской) с многочленным чередованием молитв, чтения Псалтири, речитатива и пения заняла простая система, возникшая при очевидном влиянии монастырского богослужения. Однако и это последнее не осталось неизменным: прежние молитвословия палестинских и студийских пустынников приобрели торжественность и соборность. В Божественной литургии главную роль играли теперь не тексты, а песнопения, не старинные, богатые ассоциациями кондаки, а ясные и краткие каноны. Новая поэзия была кодифицирована в антологиях для повседневного богослужения (Октоих – последовательность службы восьми воскресений), пред– и послепасхального круга (Триоди, или Трипеснцы) и фиксированного в датах (Минеи – месяцесловы). Литургический год обрел строгость, логичность и упорядоченность.
Историческое расположение евангельских сцен в новой системе росписи утрачивает свое значение. Изображения событий священной истории теперь не иллюстрация догматов, они – изобразительная параллель реальному ходу литургии. Конструкция риторической антитезы, заложенная внутри гимнической формы и антифонного пения, почти буквально спроецирована на систему росписи. Парные эпизоды, расположенные по сторонам от литургической (продольной) оси, зримо воплощая антитезу гимна, фиксируют пространственную перекличку клиросов через средокрестие храма. Система Додекаэртона (Двунадесятых праздников) давала возможность избирать из нее те сюжеты, которые имеют особый смысл для конкретного храма. Размещением сцен в пространстве храма можно было подчеркнуть преимущество одних сюжетов перед другими, выделить те, что должны доминировать в этой росписи. Поэтому византийские декорации – абсолютно индивидуальны, невзирая на строгую каноничность. Со временем, с нарастанием статичных моментов в богослужении эффект парности приобретает еще большее значение, однако он никогда не отменяет главного эффекта византийского храма и украшавшей его росписи – эффекта «вращения» изображений, воспроизводящего бесконечное круговое движение верхних частей храма – зоны сводов, арок и купола.
Сама архитектура храмов этого времени (а наиболее характерная черта их выразительности – это удивительная эластичность сводчатых круглящихся покрытий) диктовала сходную ориентацию для декорации. Собственно концепция крестово-купольного здания была прежде всего проявлена в сводах, и крестово-купольные постройки стали идеальным вместилищем для новой системы храмовой декорации.
1.2. Византийская архитектура ІХ – ХІ вв
По словам А. Л. Якобсона, «на протяжении VIII в. крестово-купольные храмы приобрели доминирующее значение в византийской архитектуре. Этот тип воплотился в средневизантийское время в нескольких вариантах: храма “вписанного креста”, храма на четырех колонках и храма на тромпах»[29]. Тесная связь этих построек с украшающей их декорацией очевидна настолько, что возникает убежденность во взаимосвязанном и целенаправленном процессе развития. Новые предметно-изобразительные концепции росписи осуществимы лишь в крестово-купольных постройках нового типа – в зданиях, которые можно было охватить одним взглядом.
Только в них интерьер храма был действительно единым целым, поверхности стен которого предназначены для принятия живописного убранства. В этом – принципиальная
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
-
 Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
-
 Яков О. (Самара)13 январь 08:41
Любая книга – это разговор автора с читателем. Разговор, который ведёт со своим читателем Александр Донских, всегда о главном, и...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских
Яков О. (Самара)13 январь 08:41
Любая книга – это разговор автора с читателем. Разговор, который ведёт со своим читателем Александр Донских, всегда о главном, и...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских