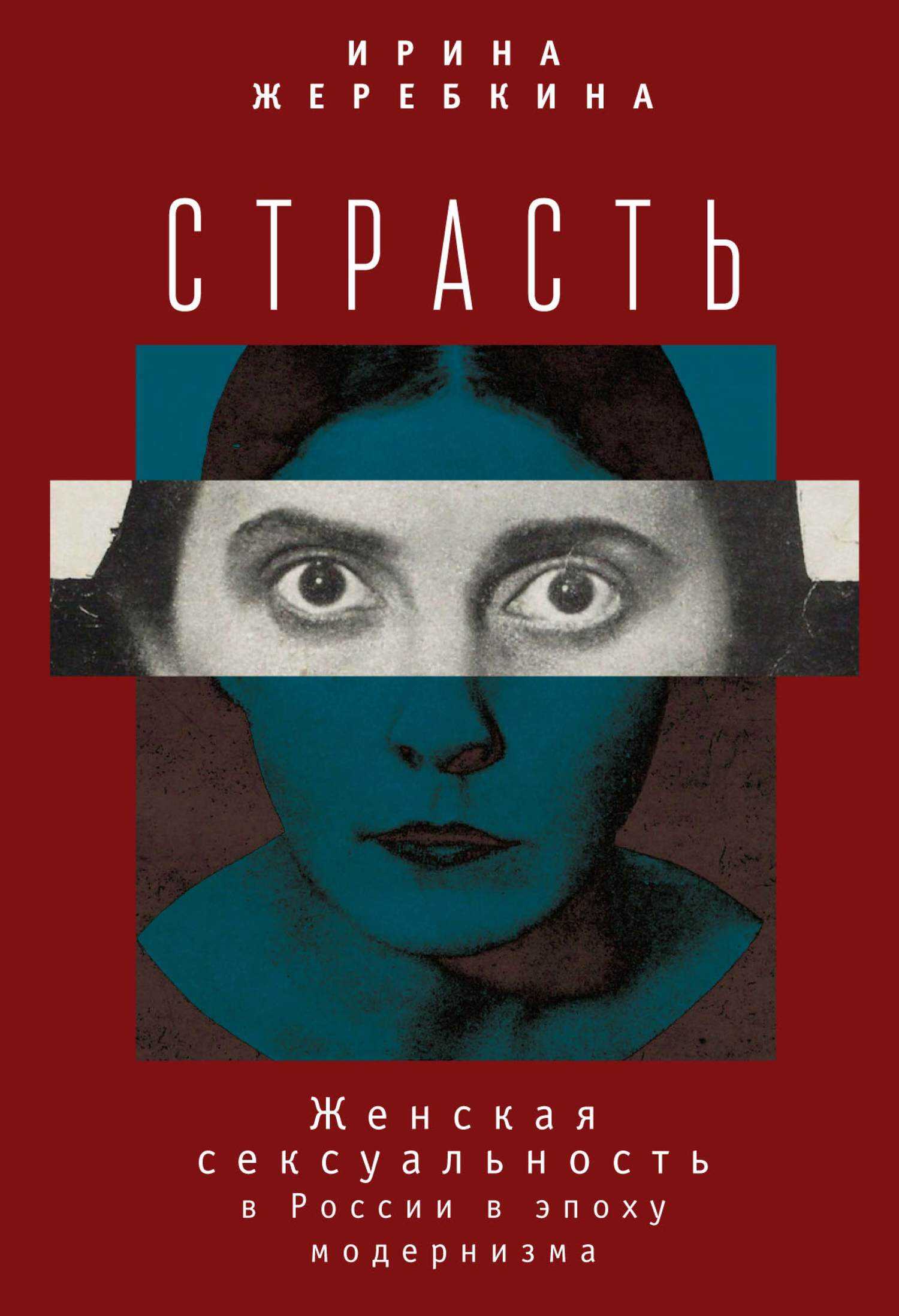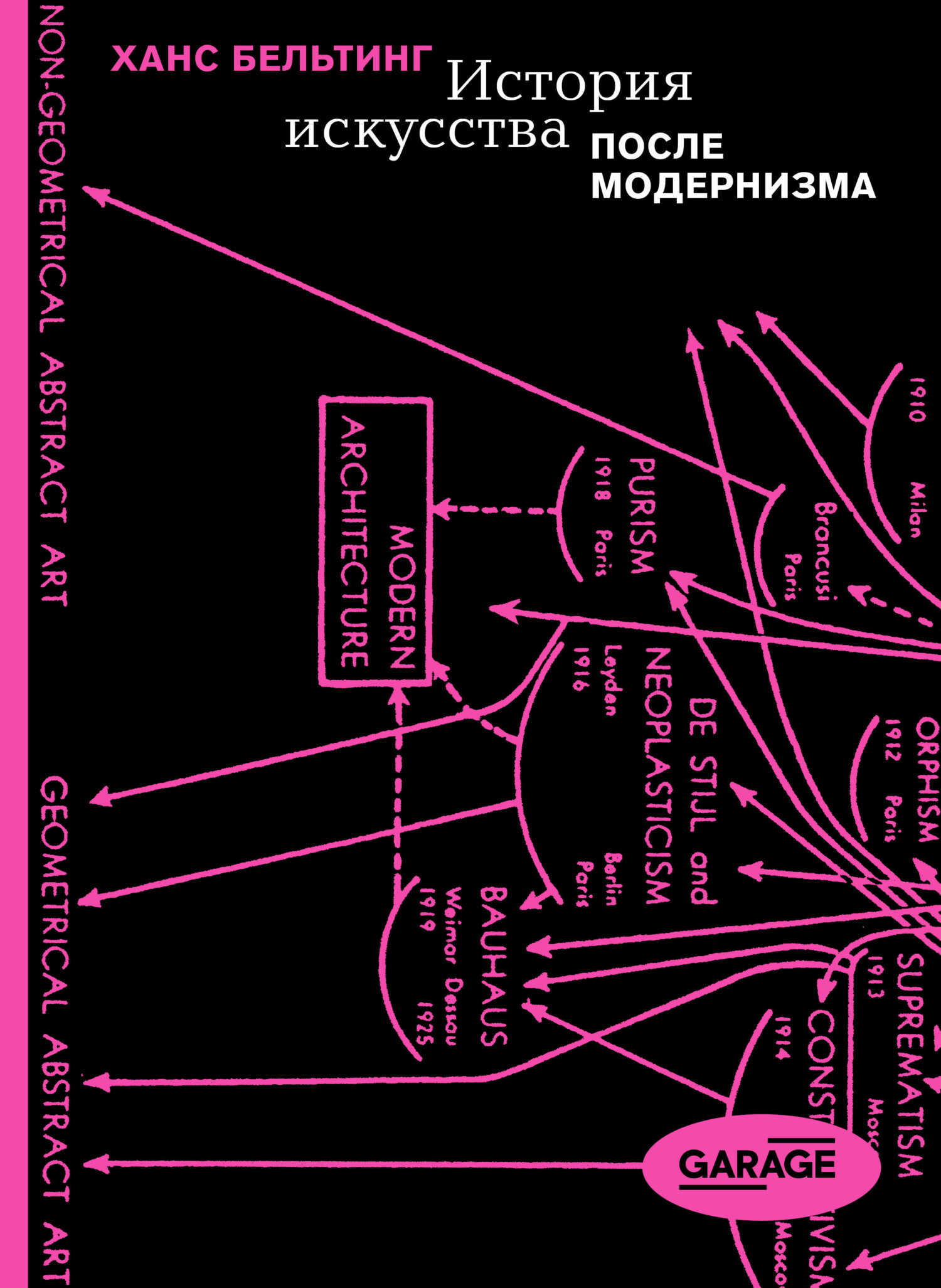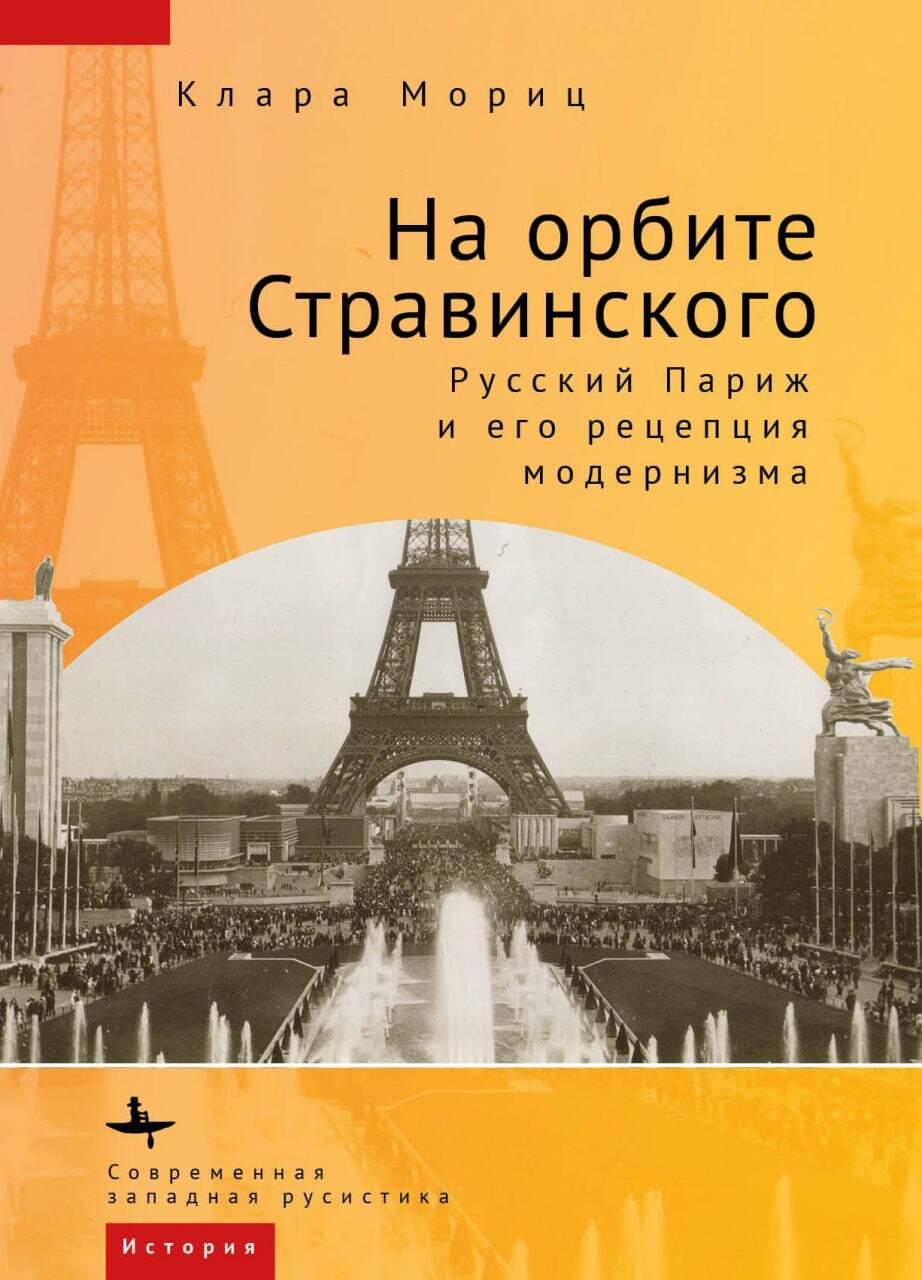Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я хотел бы, чтобы такой день как можно дольше не наступал, но все-таки такой день однажды настанет: явится биограф Брюсова. И думаю, что этому исследователю во что бы то ни стало придется считаться с намеченным различием между идеальным, умышленным Брюсовым и Брюсовым, жившим в нашей действительности. Может быть, именно в связи с этим различием и будет вскрыта трагедия его творчества [Ходасевич 1996–1997, 1: 464–465].
Брюсовская «умышленность» определяла «жизнетворческую» программу раннего модернизма. Об этой опасности перетекания творчества в жизнь Ходасевич наиболее определенно напишет в статье «О символизме» (1928). «Умышленное» преображение жизни означало для Ходасевича все то же разрушение автономного характера искусства.
Одновременно по аналогии с созданием Петербурга «умышленность» характеризовала преобладание волевого, аналитического, а не «естественного» творческого начала в литературной продукции Брюсова. Такая делегитимация Брюсова в рамках неоромантической категории «вдохновения» исходила прежде всего из соловьевского лагеря. В ней соединялась в один комплекс творческая, сословная и личная неприязнь к Брюсову (см. [Войтехович 2000: 106–109]). Этой неоромантической линии, однако, противостоял в зрелом творчестве и сам Ходасевич, подчеркивая, например, «тяжесть» своей «лиры». Но, как мы видели при разборе «Баллады» (1921), задействование орфической образности предполагало частичное наследование неоромантическим взглядам на творчество. Тем не менее в «Балладе» Ходасевич сумел обновить это неоромантическое наследие биографической конкретностью, творческой авторефлексией и «зловещей угловатостью, <…> нарочитой неловкостью стиха» (Тынянов). В «Мы» Ходасевич не нашел этому «младосимволистскому» наследию оригинального формально-тематического преломления. Не обновленный таким образом орфический сюжет слишком буквально утверждал наследование мистико-религиозному крылу раннего модернизма и очевидным образом делал стихотворение «анахроничным» для поэзии Ходасевича середины 1920‑х годов.
В стихотворении «Мы» вопрос об утилитарной тенденции в искусстве проецируется на пушкинский контекст – на дискуссии вокруг четвертой строфы «Памятника», которая, как известно, была исправлена Жуковским после смерти Пушкина и долгое время звучала следующим образом: «И долго буду тем народу я любезен, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что прелестью живой стихов я был полезен / И милость к падшим призывал» (см. [Алексеев 1967], [Бонди 1978: 442–445]). В статье «Парижский альбом. V» («Дни», 1926, 4 июля) Ходасевич, перечисляя всевозможные случаи «псевдопушкиниады», особо выделял этот случай, не в малой степени из‑за его особой наглядности:
Она <псевдопушкиниада> взобралась и на памятник Пушкину, на тот, что стоит в Москве у Страстного монастыря. Слишком общеизвестно, что на этом монументе помещены стихи, которых Пушкин никогда не писал. Кто же сочинил эти слащавые и лживые строчки:
И долго буду тем народу я любезен,
Что прелестью живой стихов я был полезен…
Увы, это не михайловский мужик, а прекрасный поэт, царедворец и друг Пушкина, В. А. Жуковский. И те, кто помещал эти стихи на памятник, – знали, что стихи – апокрифические. Но – разбираться в Пушкине было не очень принято [Ходасевич 1999–2014, 2: 30].
Привлеченный контекст, возможно, проливает дополнительный свет на использование слова «прелесть» в стихотворении «Мы» – пропаганда Мережковскими идеологии и гражданственности в искусстве уподоблялась «полезной прелести» Жуковского, обезобразившей как памятник Пушкину, так и, в первую очередь, его поэтический эпоним.
Проблема четвертой строфы «Памятника» могла быть актуализирована для Ходасевича в этот период и статьей П. Бицилли «Заветы Пушкина», вышедшей осенью 1926 года в 29‑м номере «Современных записок». В ней подвергалось критике уже не текстуальное искажение Жуковским этой строфы, но ее спорное толкование. В статье «Памятник», вошедшей в книгу «Мудрость Пушкина», М. О. Гершензон выдвинул предположение, что в этом стихотворении «Пушкин в 4‑й строфе говорит не от своего лица, – напротив, он излагает чужое мнение – мнение о себе народа» [Гершензон 1919: 51]. Иными словами, Пушкин с «горьким сарказмом» предвидит, что публика будет прославлять его поэзию не за ее художественную ценность, которую могут оценить «преимущественно поэты», а за «полезность, нравоучительность» [Там же: 60]. Как осуществление этого грустного предвидения Гершензон приводил отзывы русских критиков на «Памятник», начиная с Пыпина:
В ранней книге своей, в «Характеристиках литературных мнений», писанных еще тогда, когда 4-ая строфа «Памятника» была известна только в искажении Жуковского, Пыпин говорит: «…В знаменитом, почти предсмертном стихотворении он указывает, что его поэзия не была одним витанием в чистой области фантазии, что в ней он служил обществу: он убежден, что был полезен „прелестью стихов“ (которая действительно довершила формальное образование нашей литературы), что он пробуждал добрые чувства и призывал милость к падшим; наконец, он думал, что восславил свободу „в жестокий век“» [Там же: 61].
В статье «Заветы Пушкина» П. Бицилли выступил против такого односторонне антиобщественного прочтения «Памятника» Гершензоном и даже иронично приписал ему методом reductio ad absurdum следующую мысль: «Знаменитая 4-я строфа, подделанная Жуковским, была подделана, думал Гершензон, по недоразумению» [Бицилли 1926: 467]252; то есть «антиобщественное» прочтение Гершензона пусть противоположно по интенции, но совпадает в искажении содержания пушкинской строфы с общественно полезным прочтением Жуковского. Гершензоновское неприятие гражданского элемента как такового в поэзии Пушкина кажется Бицилли неверным:
«Гражданская поэзия» плоха не тем, что она «гражданская», а тем, что она не – поэзия и поскольку она не поэзия, т. е. поскольку «гражданское» в ней сознательно противополагается «поэтическому» или заменяет собою последнее, – согласно формуле: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан; другими словами, – поскольку «предмет» поэзии («гражданское») не субъективируется для поэта, не стал символом его духа, его внутренней жизни [Там же: 472].
При большой личной симпатии Ходасевича к Гершензону, он относился скептично ко многим положениям «Мудрости Пушкина», приведя ее в речи «Колеблемый треножник» – «со всевозможными оговорками» – в пример «обобщений слишком смелых» и «гипотез слишком маловероятных» в современных исследованиях о Пушкине [Ходасевич 1996–1997, 2: 80]. Вероятнее всего, и в обсуждаемом случае он был на стороне Бицилли. «Заветы Пушкина» также предвосхищали одну из главных мыслей, прозвучавших в упомянутой выше статье Ходасевича «Глуповатость поэзии», опубликованной в следующем номере «Современных записок», – о создании «четвертого, символического измерения» реальности как главного критерия настоящей поэзии.
«Умышленности», «декадентской прелести» и «полезной прелести» Ходасевич противопоставляет в «Мы» орфическую и пушкинско-символистскую прелесть, ассоциирующуюся, как и впоследствии в его более удачных поэтических «памятниках»253, с «Петровским и Петербургским периодом русской истории» [Ходасевич 1996–1997, 2: 80]. Так за противительной конструкцией «Не поучал Орфей, но чаровал»254 следует результат лиро-магической власти Орфея, контаминирующий мифологическую (камень повинуется песне) и пушкинскую (из «Медного Всадника») образность: «И камень дикий на дыбы вставал». В черновике присутствует также вариант «И
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт