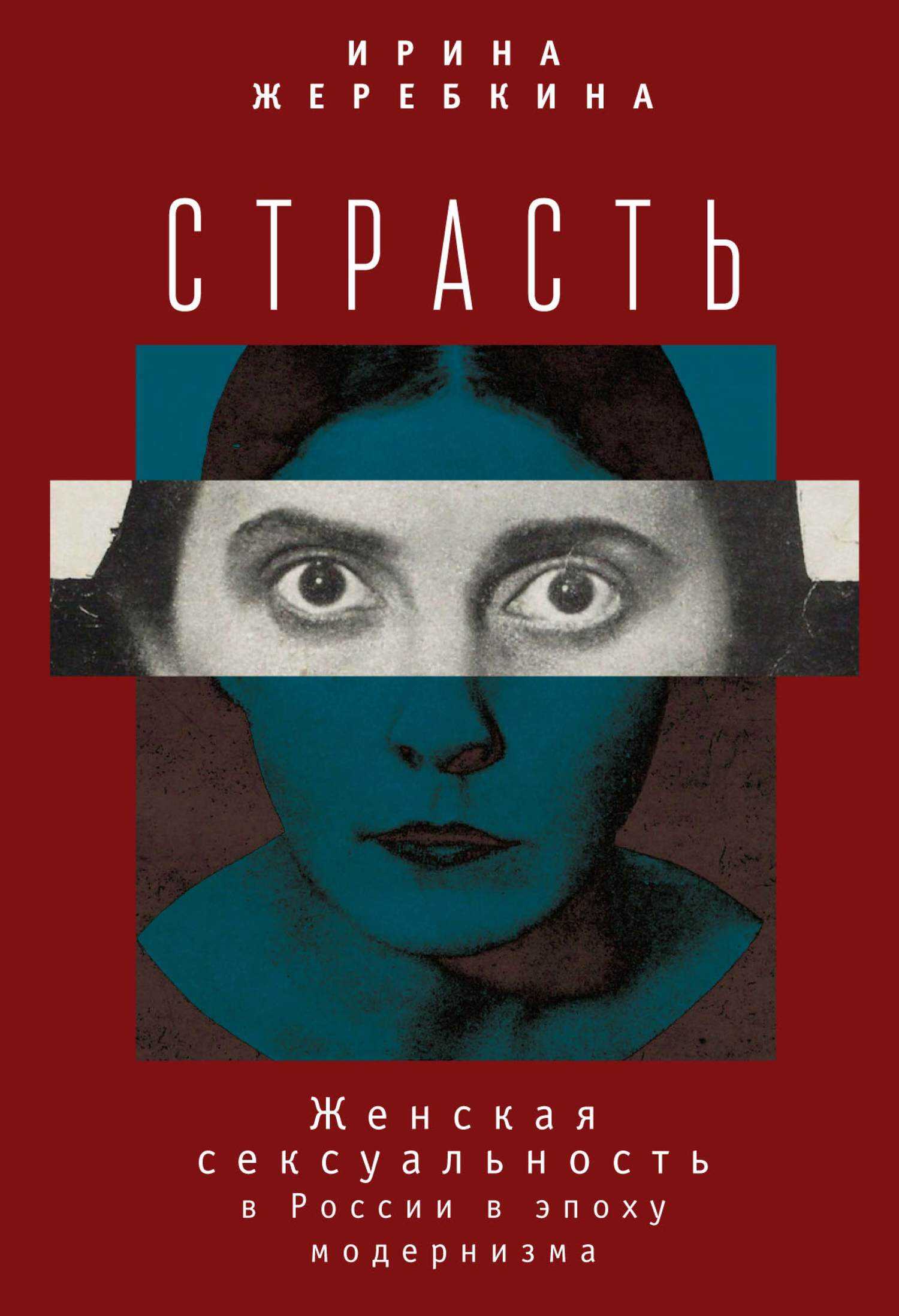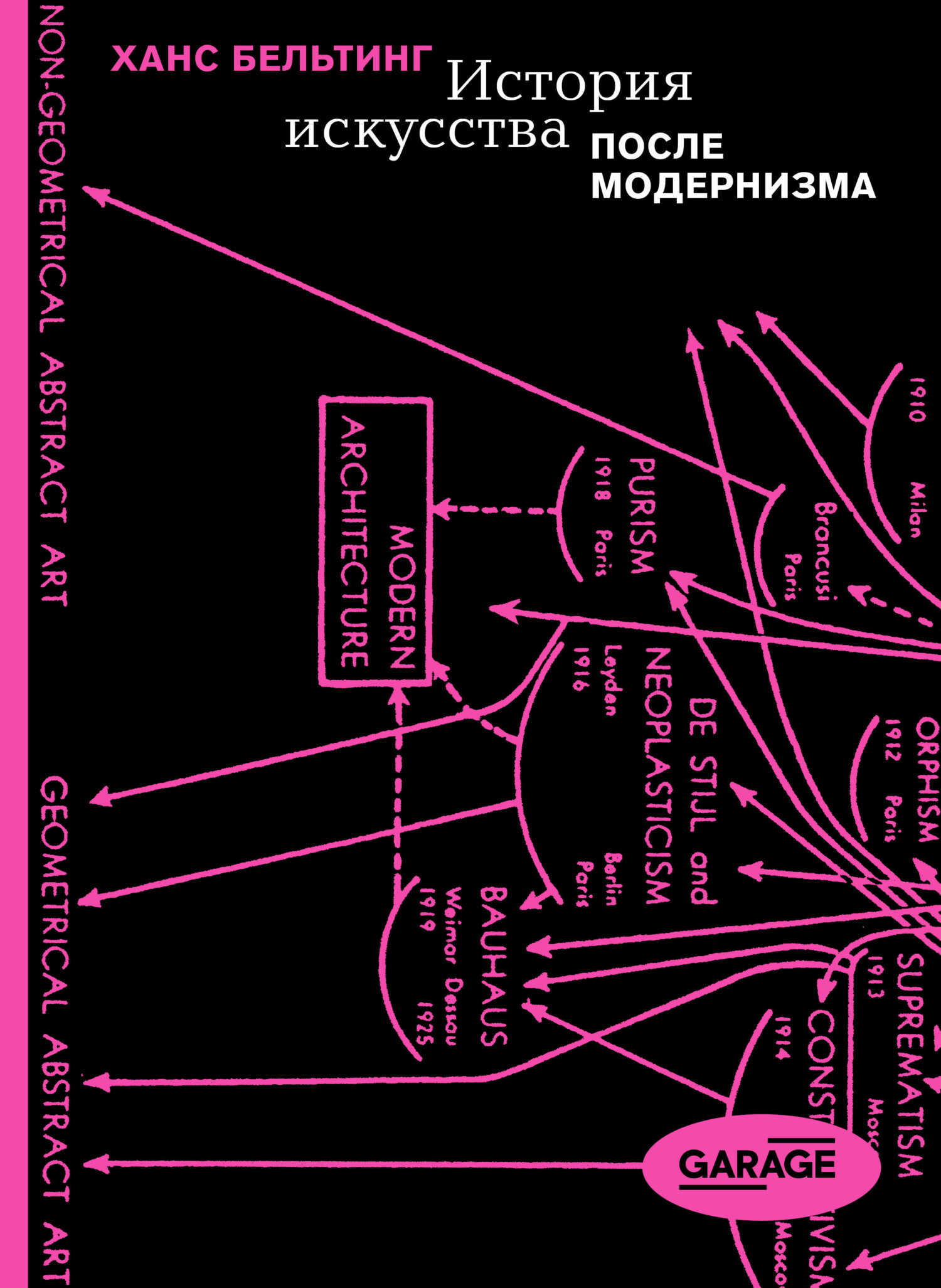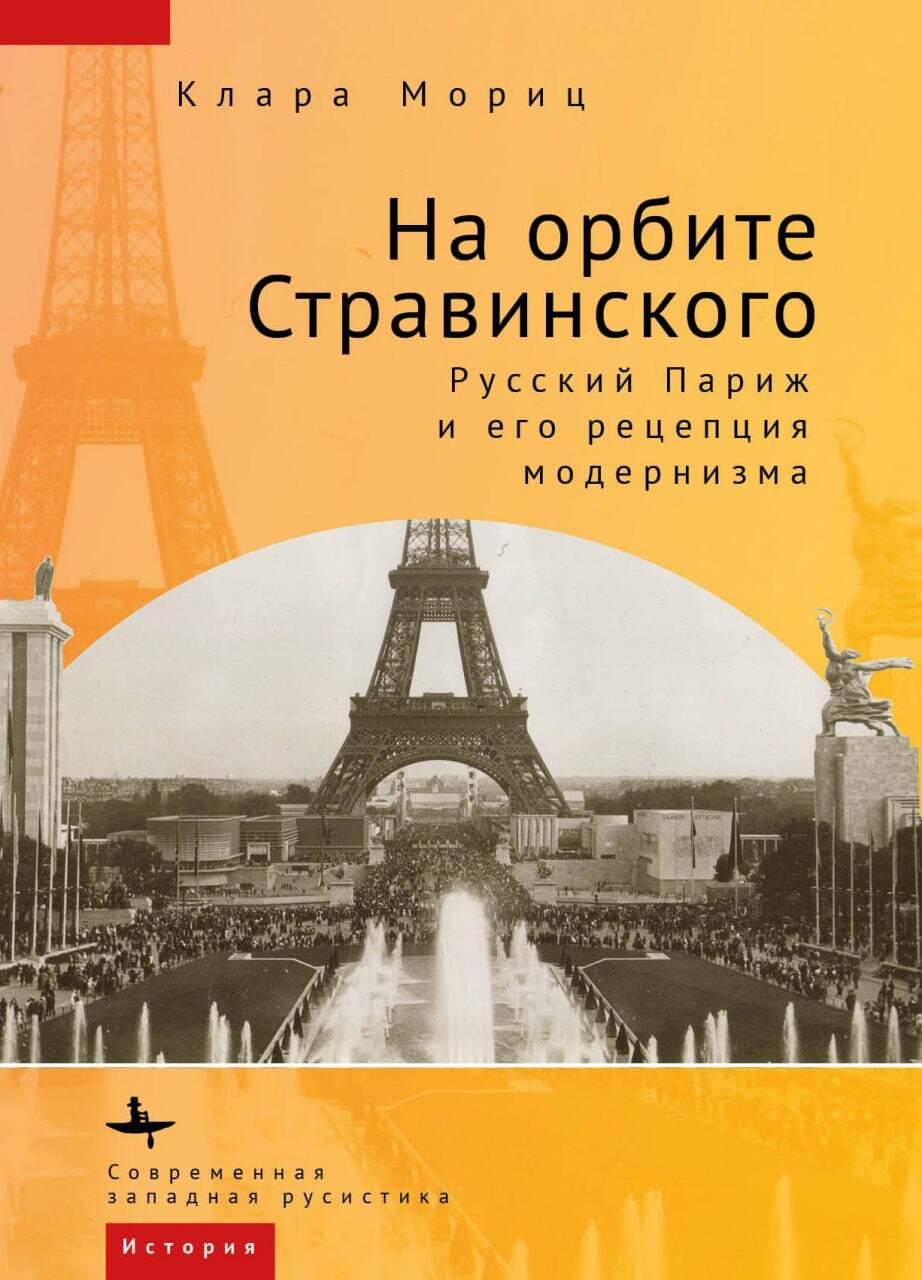Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
За самоиронией Ходасевича скрывается осознание выхода к новой поэтике, которая в наивысшем своем проявлении даст в конце 1921 года «Балладу», осознание, предвосхищающее и корректирующее упомянутую выше оценку Ю. Тынянова в статье «Промежуток». В этом отношении сознательную установку на экспериментирование с нормативной поэтикой, наиболее ярко выразившееся в «Европейской ночи», нужно отодвинуть в доэмиграционный период.
Как кажется, выбор метрико-строфической структуры для стихотворения «Мы» стоит соотносить с попыткой Ходасевича установить широкую тематическую связь между начинавшимся 1927 годом и 1921 годом в его литературной судьбе; и стихотворению «Мы» предназначалась здесь моделирующая роль. 1927 год должен был повторить триумфальный 1921‑й, и в какой-то степени повторил – хотя бы выпуском «Собрания стихов», подтверждающим центральное место Ходасевича в современной русской поэзии. Отмечу также, что дата начала работы над «Балладой» (9 декабря 1921) почти совпадает с окончательной датой работы над «Мы» (10 декабря 1927). Возможно, это было не случайно, и вышедшее к этому времени «Собрание стихов» дало Ходасевичу импульс вернуться к попытке января этого года; а именно: с одной стороны, свести воедино пушкинский и символистский векторы своей поэзии, и с другой – обозначить и заклеймить враждебные им, по мысли Ходасевича, литературные и мировоззренческие подходы.
Думается, что Ходасевич понимал выпад Г. Иванова в «Мы из каменных глыб создаем города…»243 против своего образа Орфея в более широком плане противостояния разных тенденций среди умеренных модернистов. Как уже отмечалось, Иванов утверждал пуристскую программу по максимальному освобождению от рудиментов неоромантизма или символизма, в то время как Ходасевич совмещал мистико-теургическую тематику и неоклассицистическую поэтику. И в «Мы» он попытался программно эксплицировать мистико-теургическую, орфическую природу поэзии. Оба участника полемики пытались представлять художественно-идеологические явления, с которыми они в своей поэтической практике порой серьезно расходились. И этим, среди прочего, можно объяснить неудовлетворительный художественный результат их «манифестов». Ивановское – достаточно плоское – осуществление акмеистически-цеховой программы было, по замечанию А. Ю. Арьева, «поставлено под сомнение» и «опровергнуто» в стихотворениях, непосредственно следующих за ним в первой же публикации (см. [Иванов Г. 2005: 694]). Ходасевич свое просто не опубликовал.
Но главным объектом полемики стихотворения Ходасевича были З. Гиппиус и Д. Мережковский. Кратко опишу контекст отношений Ходасевича и Мережковских в это время и тот фактор, который, по-видимому, подтолкнул именно в начале 1927 года к попытке резкого размежевания с ними.
1926 год означился сближением позиций Ходасевича и Гиппиус в «литературной политике». Ходасевич относился к этому сближению несколько иронично-настороженно, что отражено в его письме к М. М. Карповичу от 7 апреля 1926 года: «Литературно у меня сейчас „флирт“ с Гиппиус: за что-то она меня полюбила» [Ходасевич 1996–1997, 4: 498]. Основным пунктом сближения было сходное негативное отношение к левому крылу эмиграции, оформившемуся в движение возвращенчества и деятельность журнала «Версты», и попытка выработать общую эмигрантскую литературно-идеологическую платформу. Однако это сближение против общих идеологических врагов таило в себе противоречие для литературного самоопределения Ходасевича. Подчеркивание Мережковскими первостепенного общественно-религиозного значения литературы подрывало ключевые для Ходасевича ценности литературной автономности. «Мы», таким образом, призвано было определить демаркационные линии между их отношением к искусству.
Кроме того, характерные черты зрелой поэтики Ходасевича позволяли предвзятым критикам отодвигать его вглубь модернистского движения, в один ряд с «бабушкой русского декадентства», как назвала себя с самоиронией Гиппиус [Гиппиус 1978: 66]. Такие сопоставления также требовали от Ходасевича подчеркнуть его обособленность.
В качестве примера сближения имен Ходасевича и Гиппиус можно привести обзорную рецензию Д. Святополк-Мирского на журналы «Современные записки» и «Воля России», опубликованную в первом номере журнала «Версты» (1926) где он бросал вызов многим эмигрантским литераторам. Святополк-Мирский расправлялся с Ходасевичем в три приема, отводя ему незавидное место эпигона ранних модернистов:
<…> Мережковский – первые «бездны» и первые «тайны» девяностых годов. Гиппиус и Ходасевич – достоевщина, прошедшая через реторты всех раннесимволистских софистик. По значительности своей они тоже не равномерны: Мережковский если когда-нибудь и существовал (не как личность, конечно, а как желоб, по которому переливались порой большие культурные ценности), перестал существовать, по крайней мере, двадцать два года тому назад. <…> Ходасевич, маленький Баратынский из Подполья, любимый поэт всех тех, кто не любит поэзии; и особенно две подлинно большие (очень по-разному) фигуры Зинаиды Гиппиус и Бунина. Но Зинаида Гиппиус видна во весь рост только изредка в немногих стихах. Эти немногие стихи принадлежат к самым подлинным, самым острым, самым страшным выражениям подпольного начала в русской поэзии (настолько же сильней Ходасевича, насколько «Господа Головлевы» выше Леонида Андреева). Подлинная Зинаида Гиппиус, конечно, ни в какой мере не консервативна и не «благонамеренна». Но эта подлинная – обернута в «семь покрывал» общественно-религиозно-философской деятельницы, призванной обосновать «курс на религиозное преображение демократии» [Мирский 2014: 142–143].
Итак, как часто и в других полемических атаках на Ходасевича, его творчество отодвигалось Мирским вглубь модернистского движения, в данном случае ко времени fin de siècle. Примечательно, что при характеристике Гиппиус Мирский использует образность из пьесы О. Уайльда «Саломея» – «танец семи покрывал». Гиппиус становится выразителем смыслового комплекса вырождения, только скрытая за «покрывалами» общественно-религиозных интересов. «Подполье» Достоевского также переосмысляется в категориях крайнего индивидуализма и декадентства раннего модернизма. Такое определение общих идейных истоков Гиппиус и Ходасевича в резком размежевании раннего модернизма от современных немодернистских культурных сообществ по-своему было правомерным. Тем не менее Мирский игнорирует различные формы преодоления Ходасевичем наследия раннего модернизма в зрелом творчестве. Например, «подполье» стало очерчивать пространство автономности искусства от различных внеэстетических притязаний. Причем преодоление крайностей раннего модернизма выражалось также в утверждении ценностей «простого и малого» существования в его историко-культурной и «семейной» конкретике. Как мы видели ранее, это очерчивание демаркационных линий частного существования и эстетической независимости осуществилось в «мышином» цикле, вошедшем в «Счастливый домик», в частности в стихотворении «Сырнику»: «Заведу ли речь я о Любви, о Мире – / Ты свернешь искусно на любимый путь: / О делах подпольных, о насущном сыре, – / А в окно струится голубая ртуть…» [Ходасевич 1996–1997, 1: 120]. Стоит обратить внимание на определенное сходство в полемической направленности Мирского и Ходасевича. «Маленький Баратынский из Подполья» сочетает неоклассицизм и декадентство, графически обозначенное заглавной буквой. Но и в стихотворении Ходасевича графическое воплощение отвлеченного мышления раннего модернизма – слова с заглавными буквами – противопоставляется обретению новых ценностей в насущных, «малых», земных вещах. К этим новым – антидекадентским – ценностям «простого и малого» Сырник приобщает благодарно прислушивающегося к нему поэта. Таким образом, полемичный выпад Мирского сознательно или бессознательно игнорировал направление творческой эволюции Ходасевича.
Тем
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт