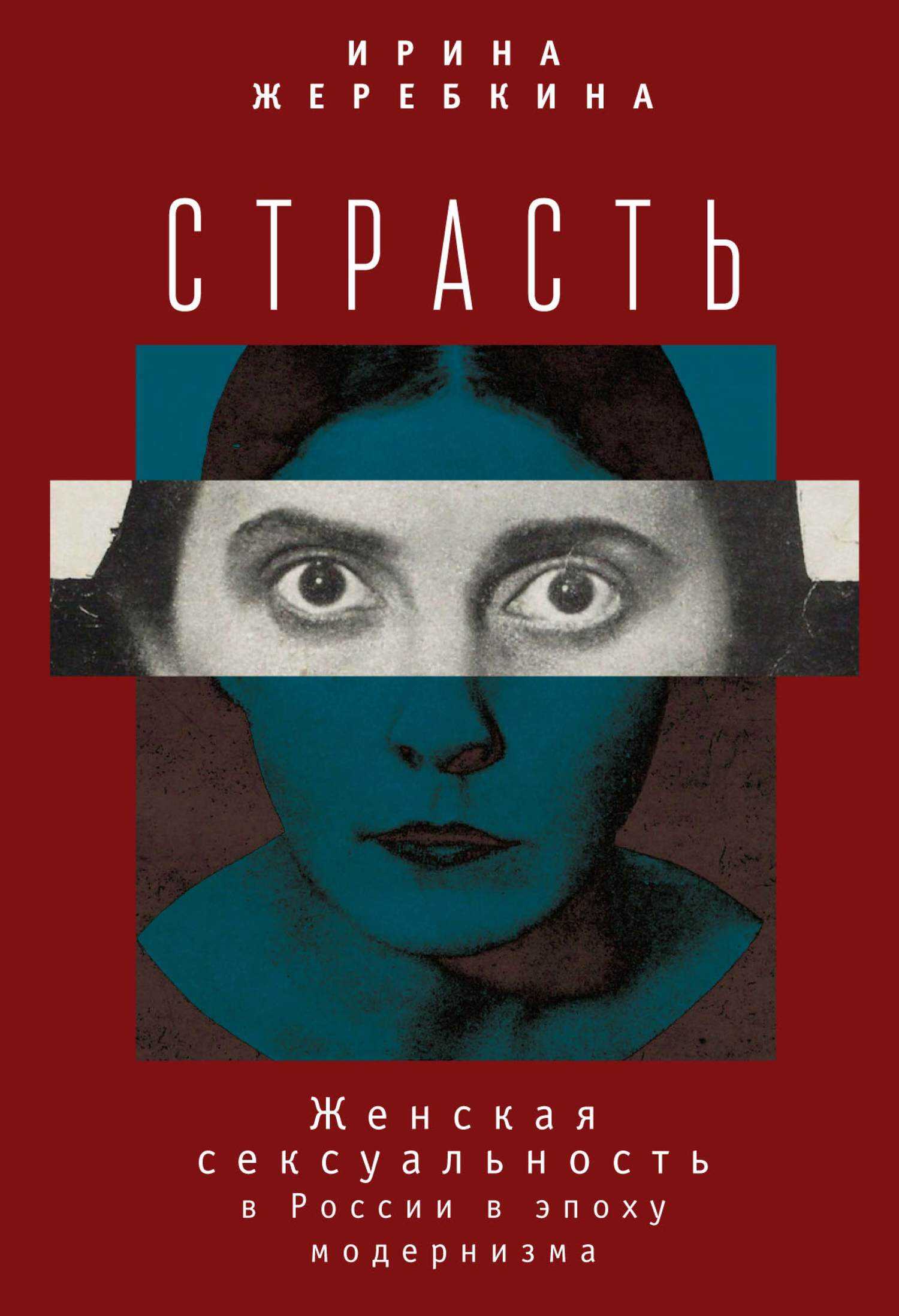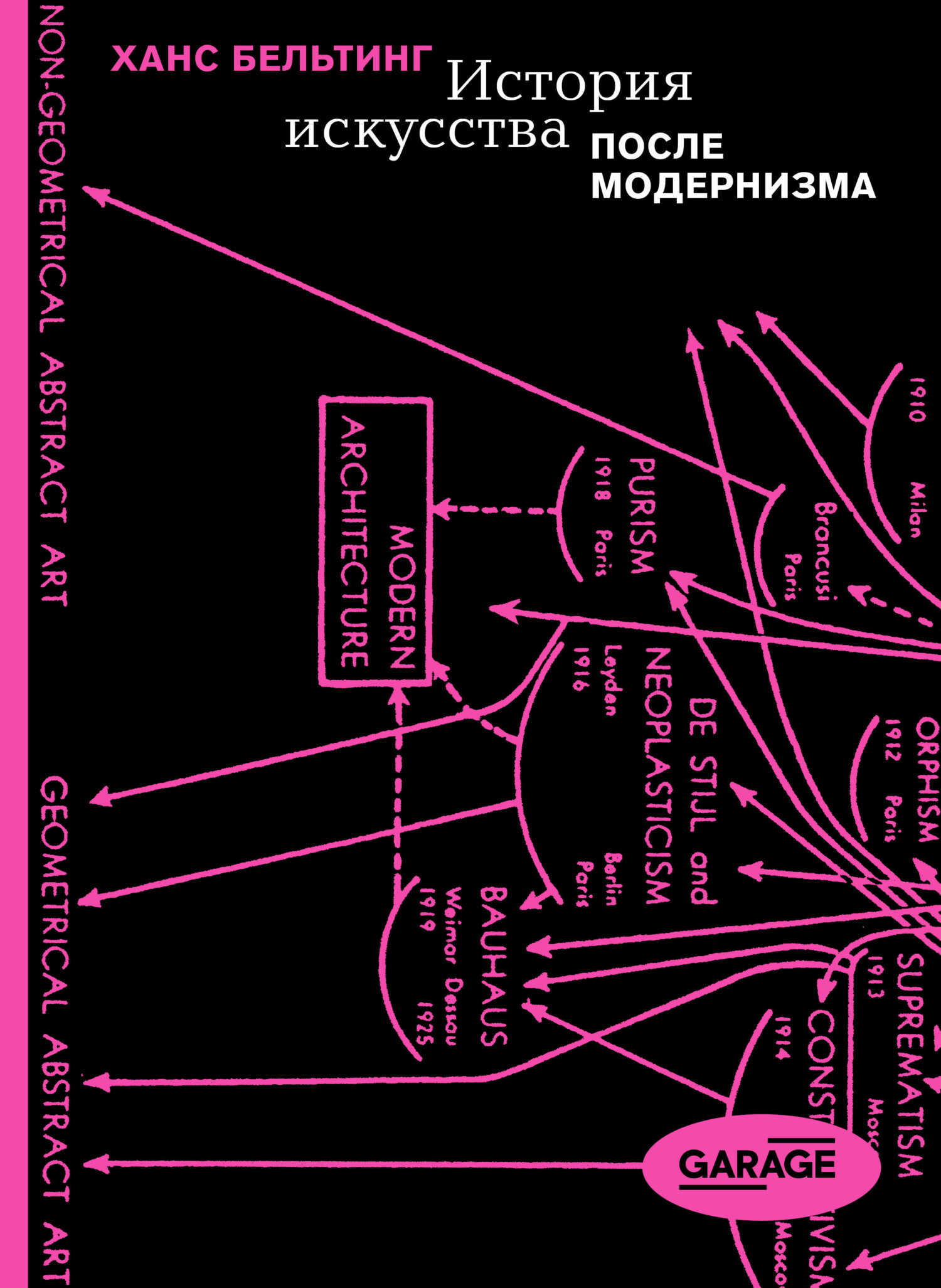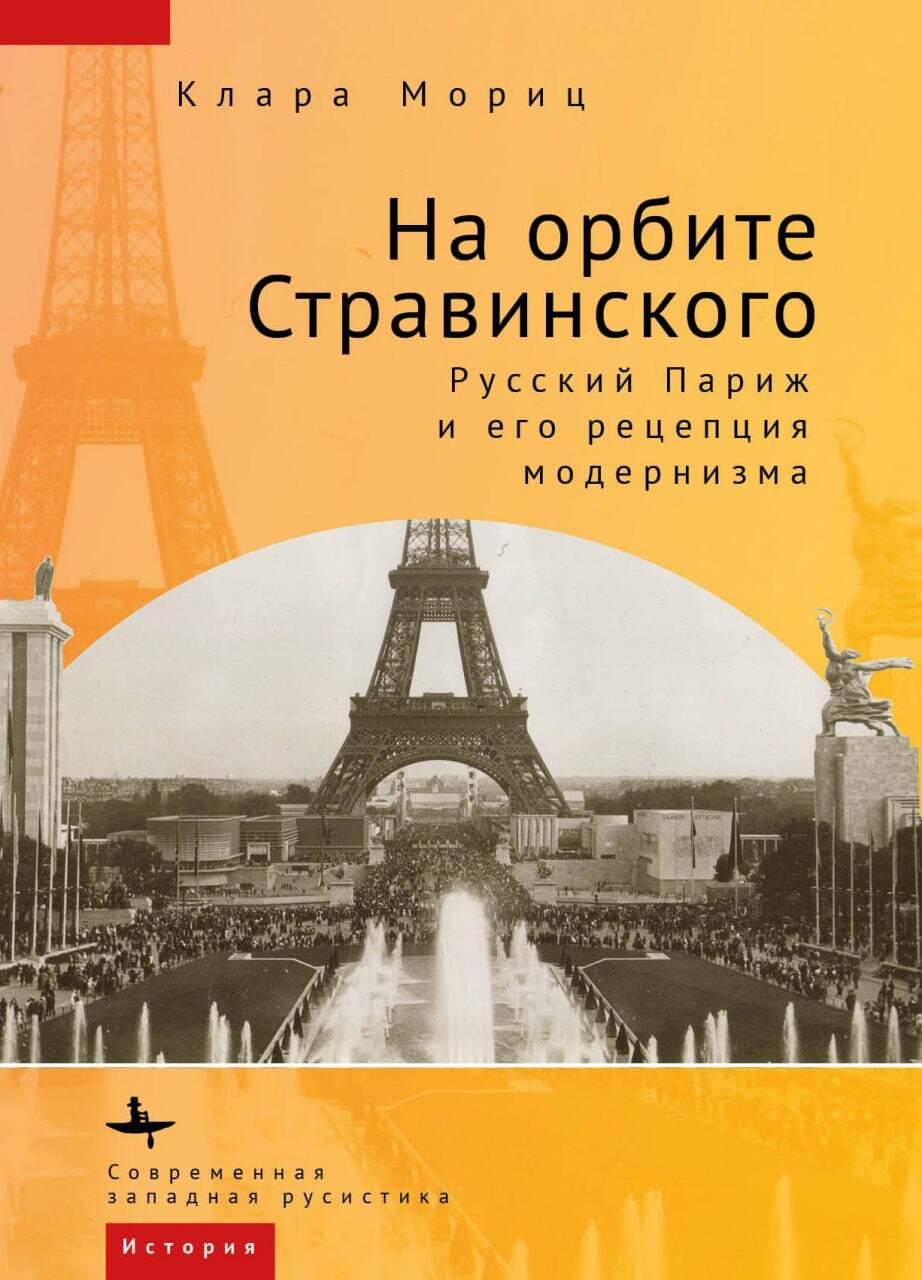Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как в сказке Андерсена Кай бьется, чтобы сложить из льдинок слово «вечность» (в этом его спасенье), так нужно и Ходасевичу сложить из всего, что «Я» носит в себе, какой-то вечный кристалл. Но кристалл не складывается. И тогда:
…Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?..
Все равно, кому, – никому; но поведать.
…И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытьи…
………………………………
Я сам над собой вырастаю
Над мертвым встаю бытием…
Пусть хотя бы призрачные создаются кристаллы, хотя бы легкая, «падучая» их тень. Зоркой мыслью человек знает, что стихи поэта —
Лишь угловатая кривая
Минутный профиль тех высот,
Где, восходя и ниспадая,
Мой дух страдает и живет.
Но пусть! И тень кристалла – тень, все-таки, спасенья [Гиппиус 2002: 334].
Как мы помним, «Снежная королева» Андерсена служила одним из кодов в раннем русском модернизме для определения задач искусства. Сюжет сказки, однако, позволял различные и даже противоположные интерпретации искусства как средства по достижению трансцендентного. В ранее процитированной статье «Памяти В. Ф. Комиссаржевской» Блок говорил о Кае как о гениальном художнике, который способен провидеть «то, что скрыто» за «первым планом мира». Но попытка Кая воссоздать из кусочков льда слово «вечность» могла осознаваться также – в духе платоновского мифа о «пещере» – как безуспешные попытки художника манипулировать призрачными отражениями истинной реальности. Такое неоплатоновское прочтение сказки отрицало для творчества приоритетное место в «познании»/воссоздании трансцендентного. Это место резервировалось за традиционным философско-религиозным познанием потустороннего.
Андерсеновская интерпретация «Баллады» и поэзии Ходасевича в целом как создание «призрачных кристаллов» обнаруживает у Гиппиус неизменное и в 1920‑е годы раннемодернистское (неоплатоническое) понимание искусства как неистинного отражения потустороннего мира. Как мы помним, Ходасевич и Мандельштам – вслед за Брюсовым – выступали в защиту поэзии от такого неоплатонического антиэстетизма еще в начале 1910‑х годов234.
Кроме суждений о ее имманентных и идеологических характеристиках «Баллада» служила основанием и для определения места Ходасевича в историко-литературном процессе. Обратимся к статье П. Бобринского «Мысли о русском символизме» (Мосты, № 9, 1962), которая была навеяна, как об этом говорит сам автор, «книгой С. К. Маковского „На Парнасе Серебряного века“» [Бобринский 1962: 171]. Бобринский входил в литературную группу «Перекресток», придерживавшуюся принципов умеренного крыла зрелого модернизма в эмиграции и непосредственно ориентирующуюся на зрелое творчество Ходасевича. Выражением явного предпочтения неоклассическим тенденциям статья Бобринского перекликается со статьей В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм». Однако, разделяя вкусовые предпочтения умеренного крыла зрелого модернизма, Бобринский не писал статью в полемическом тоне близкого свидетеля и участника литературного процесса, призванного утвердить одно направление за счет другого. В отличие от Жирмунского Бобринский не противопоставлял два поколения поэтов, но высказал мнение, что уже в творчестве самих символистов наблюдался «постепенный отказ от мистической туманности или свойственного многим из них искания часто одной музыкальности или новых метров и форм, в ущерб словесному материалу» [Там же: 172]. Иными словами, Бобринский указывает на постепенное зарождение в поэтике ранних модернистов принципов зрелого модернизма. Примером такого имманентного саморазвития символизма Бобринскому служит в первую очередь творчество Блока. Этот эволюционный путь Бобринский видит и в творчестве Ходасевича:
Холодный и строгий мастер, внушавший по его собственному выражению «отвращение и страх желторотым поэтам», Вл. Ходасевич, в отличие от Гумилева, с «символизмом» никогда не порывал. Он до конца своих дней продолжал считать себя поэтом символистом, хотя и искал в своих зрелых вещах того словесного совершенства, той классической ясности и простоты, которыми отличаются его последние книги. И именно в этих его книгах мы находим образцы подлинно символической поэзии. Вспомним хотя бы его «Балладу»:
Сижу освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей, —
круглой, как земля или круг горизонта, под небом потолка и электрическим солнцем:
<…>
И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей.
На гладкие черные скалы
Стопы упирает Орфей.
Разве «прекрасная ясность» этой баллады не может служить примером символической поэзии, не нуждающейся для выражения ни в дионисийском мраке, ни в туманной романтике раннего русского «символизма»? [Там же: 175–176]
Последнее предложение как будто возвращает нас ко времени «кризиса символизма» или раннего модернизма на рубеже 1910‑х годов, когда в кузминской статье «О прекрасной ясности» видели манифест против объединенных сил символистов – дионисийствующего Вяч. Иванова и туманного неоромантика в своем творчестве начала 1900‑х годов А. Блока (см. [Богомолов, Малмстад 2007: 245–249], [Ча 2004: 42–53]). Бобринский видит в «Балладе» попытку Ходасевича выразить на языке умеренного крыла зрелого модернизма его мистико-эсхатологические основы. Сходные задачи Ходасевич ставил себе еще в статье 1914 года «Русская поэзия. Обзор»: говоря о «законченности внутреннего развития школы» символизма, Ходасевич тем не менее утверждал, что «ее историческая роль еще далеко не сыграна. Можно сказать, что он <т. е. символизм. – Э. В.> едва начинается» [Ходасевич 1996–1997, 1: 407].
Орфей как мифологическая проекция поэтического «я» Ходасевича мог стать предметом полемики не только в статьях, но и в поэзии. Считается, что в стихотворении Г. Иванова «Мы из каменных глыб создаем города» (1922) использование образа Орфея было одним из «отголосков зарождающейся в эти годы полемики Г. Иванова с В. Ходасевичем» (см. [Иванов Г. 1994, 1: 625, Иванов Г. 2005: 694]). Как кажется, полемический контекст этого стихотворения можно расширить и на орфическую образность Мандельштама. Написанное после смерти Блока стихотворение Иванова роднит со стихотворениями Ходасевича и Мандельштама235 этого времени попытка сформулировать точки притяжения и отталкивая по отношению к Блоку, а также к наследию раннего модернизма. Предлагая свой вариант поэзии зрелого модернизма, Иванов одновременно отталкивался от наследия раннего модернизма и полемически противопоставлял свой вариант зрелого модернизма другим его вариантам.
В стихотворении Иванова можно видеть упрощенную поэтическую декларацию, противопоставляющую ценности романтизма и неоклассицизма в его акмеистическом изводе. Прежде всего архитектура уничижительно противопоставлена символистской музыке как
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт