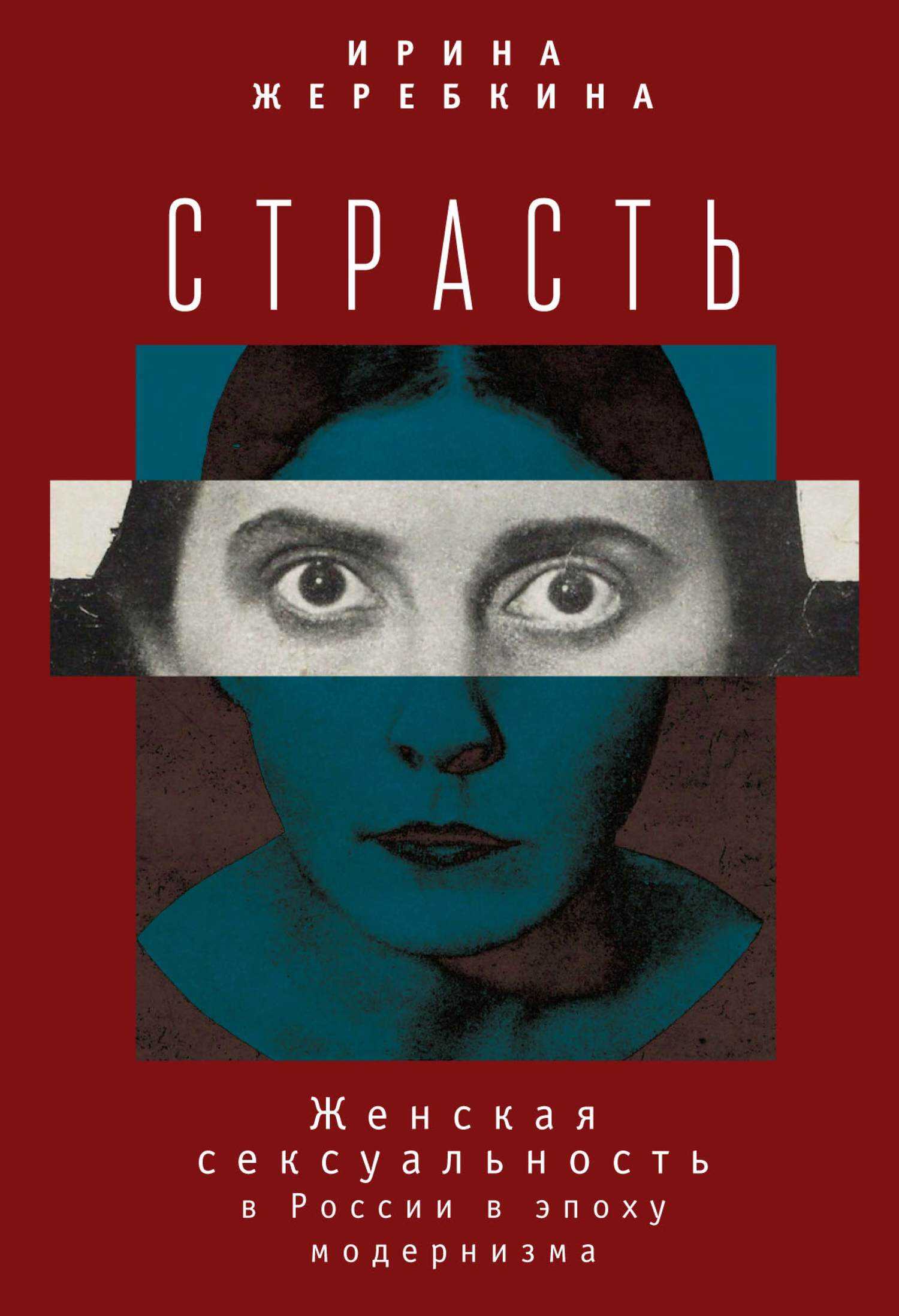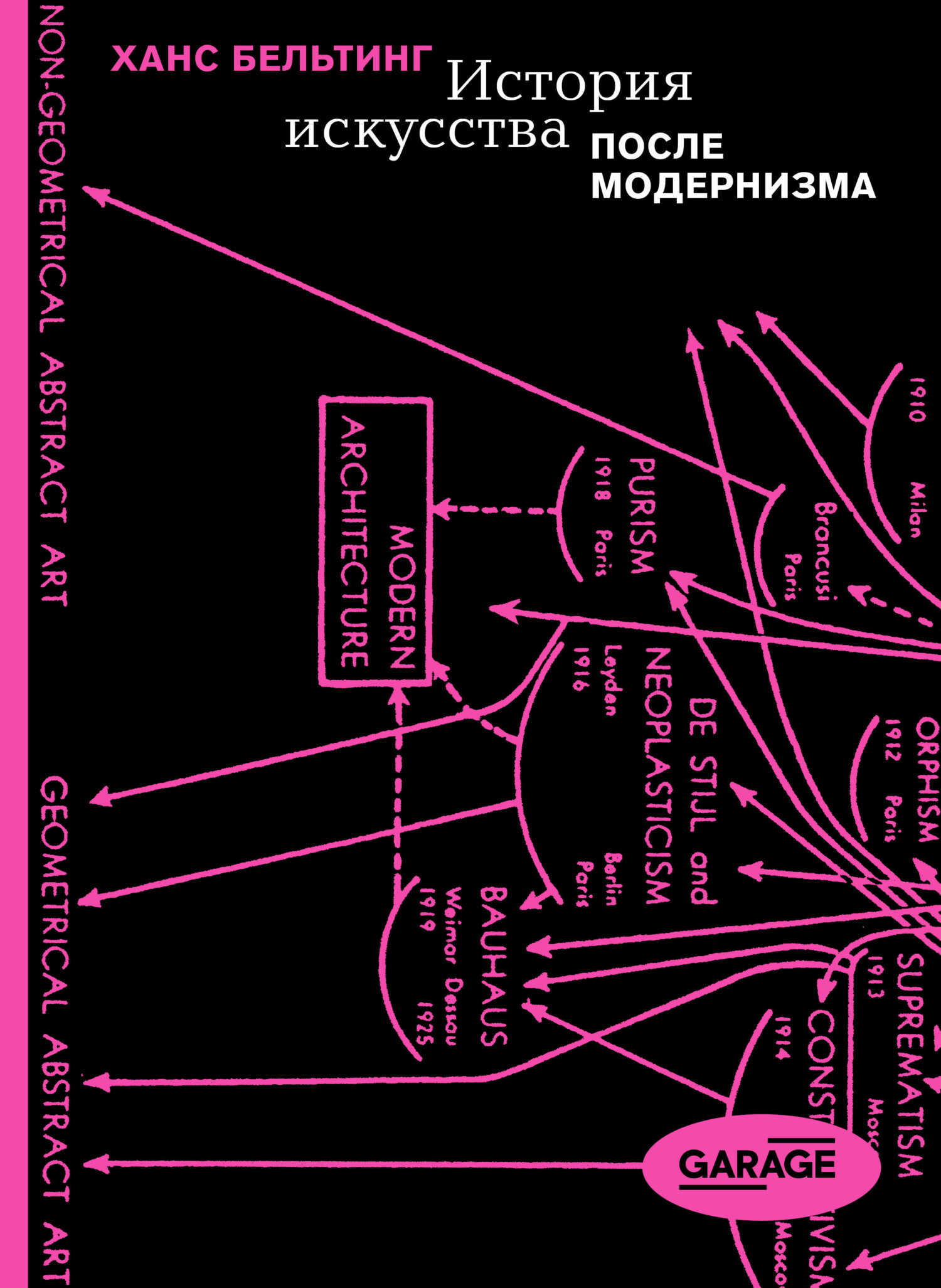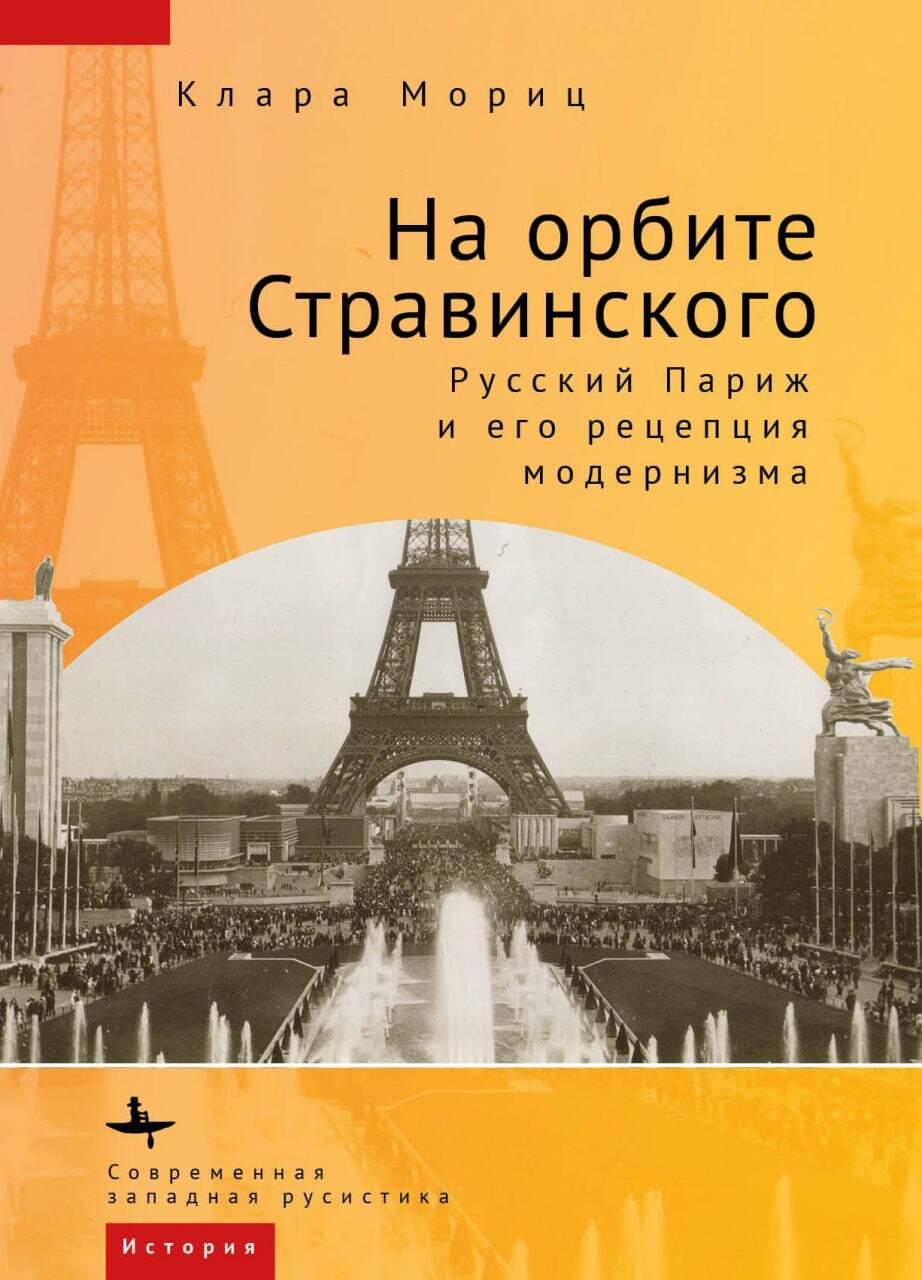Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ни звука в сердце нет,
Виденья бедные былого,
Друзья погибших лет!
Быть может, умер я, быть может —
Заброшен в новый век,
А тот, который с вами прожит,
Был только волн разбег,
И я, ударившись о камни,
Окровавлен, но жив, —
И видится издалека мне,
Как вас несет отлив
[Ходасевич 1996–1997, 1: 313].
В этом отношении, говоря о типологически сходной мифологизации жизненных обстоятельств Ивановым и Ходасевичем, ходасевическая самоидентификация с Арионом имеет дополнительный историко-литературный аспект. Это стихотворение было напечатано в номере 37 журнала «Современные записки», вышедшем в декабре 1928 года – то есть уже после напечатания статьи Мережковского. Я не обладаю сведениями о том, что Мережковский мог быть знаком со стихотворением Ходасевича до написания своей статьи. Возможно, возникновение образа Ариона в обоих текстах было мотивировано двойным юбилеем – столетием написания «Ариона» Пушкина и десятилетием большевистской революции.
В стихотворении «Скала» можно увидеть новое осмысление орфической оглядки230. Начиная со стихов «Счастливого домика», основной принцип ее переосмысления все больше универсализировался, отрываясь от первоначального мифологического контекста. Но инвариант переосмысления оставался тем же: Ходасевич варьировал тему «не-оглядки». Уже в «Жеманницах былых годов…» «неоглядка» приобрела метапоэтическое значение. В «Скале» она получает новую тематизацию: при помощи пушкинского «Ариона» экстраполируется на ситуацию отчужденности от символической эпохи и ее представителей. Знаменательно определенное соответствие между значением «неоглядки» в «Жеманницах былых годов…» и в «Скале». В первом случае она противопоставляется «суетному», тенденциозному «спуску в прошлое», при котором не происходит творческого, воскресительного общения с «предками». Во втором также представлена только первоначальная – «негативная» – часть этой позиции. По признанию Ходасевича, «Скала» была написана «после долгого разговора о символизме и символистах» [Ходасевич 1996–1997, 1: 525]. Стихотворение, таким образом, устанавливая необходимую психологическую дистанцию, знаменовало собой лишь предварительное условие для дальнейших «несуетных» размышлений Ходасевича о наследии русского символизма. Использование инварианта «не-оглядки» в «Скале» как будто замыкало круг в отношении Ходасевича к «орфическому комплексу» ранних модернистов. В «Увы, дитя! Душе неутоленной…» «неоглядка» проигрывается на любовном сюжете – по контрасту с любовным треугольником Белого – Петровской – Брюсова. В «Жеманницах былых годов…» «неоглядка» обретает метапоэтическое значение, соотносимое с вырабатывавшимися тогда принципами умеренного полюса зрелого модернизма. И наконец, в «Скале» сами ранние модернисты видятся литературными предками из «Жеманниц былых годов…», для воскресения которых уже с точки зрения историка русского модернизма необходимо было установить дистанцию, отдалиться от «лона символизма», по выражению Мандельштама.
Несомненно, что строки: «Виденья бедные былого, / Друзья погибших лет» относились не в малой степени непосредственно к Петровской, проживающей в 1927–1928 годах в Париже. Воспоминания Н. Берберовой дают представление о мучительном общении Ходасевича и Петровской в это время (см. [Берберова 1996: 205]). Все еще остро переживая любовные перипетии прошлых лет, Петровская воплощала «комплекс Эвридики». Перед этим общение с Андреем Белым показывало сходное зацикливание на любовных травмах прошлого (см. [Там же: 204]). Общение с ними не могло не напомнить Ходасевичу об «орфическом треугольнике», речь о котором шла ранее. Этот жизненный контекст подспудно подсвечивал в центральном образе Ариона его соотнесение с Орфеем.
Помимо ивановских теорий, Ходасевичу должны были быть известны и другие прецеденты, когда Арион использовался в орфическом контексте. Так, И. Анненский в вышедшей в 1899 году отдельной брошюрой статье «Пушкин и Царское Село» писал:
Надо ли говорить о том, как мало субъективности было у Пушкина в изображениях Шенье, Байрона и Овидия и как не похожи одна на другую эти «потревоженные тени»: изнеженного, рано поседевшего и беспомощного Овидия, который с бледной улыбкой принимает дань наивного обожания скифов; Андре Шенье, этого светлого жреца поэзии, оправдавшего судьбою легенды об Арионе и Орфее; и Байрона, тоскующего и гордого гения бури? [Анненский 1979: 317]
Как мы помним, в брюсовском стихотворении «Ему же» также соотносились фигуры Ариона и Орфея.
Название стихотворения «Скала» напрямую отсылает к окончанию стихотворения «Арион»: «И ризу влажную мою / Сушу на солнце под скалою». Как считают исследователи, древнегреческий миф позволил Пушкину определить свое отношение к декабристскому восстанию. По мысли Р. В. Иезуитовой, эта аналогия показывает, что «он также является жертвой пронесшейся над Россией бури, что он лишь чудом уцелел в ней» [Иезуитова 1983: 88–114], [Глебов 1941: 296–304]. Вместе с тем интерпретация мифа в стихотворении осуществляется в соответствии с романтическими категориями, выстраивающими особую связь между «таинственным певцом» и стихией, пощадившей его и уничтожившей остальных пловцов. «Скала» Ходасевича предполагает сходное политическое прочтение, перенося его на революцию 1917 года (см. [Кукин 1993: 164–165]). «Скала», однако, лишена пушкинского установления «таинственной» связи между стихией и поэтом, что подчеркивается на лексическом уровне. Пушкин персонифицирует эту стихийную силу: «Лишь я, таинственный певец, / На берег выброшен грозою». В то время как у Ходасевича разрушительность стихии становится качественной характеристикой его юности: «Быть может, умер я, быть может – / Заброшен в новый век, / А тот, который с вами прожит, / Был только волн разбег, / И я, ударившись о камни, / Окровавлен, но жив…» Стихотворение, таким образом, переориентирует пушкинскую политическую интерпретацию Ариона в русло метапоэтического размышления о собственном жизненном и литературном пути231.
Стихотворение Ходасевича невольно предвосхитило трагический конец Петровской 23 февраля 1928 года. Как пишет Берберова, на рукописном экземпляре строка: «Друзья погибших лет» выглядела: «Друзьям минувших лет!», напрямую отсылая к стихотворению Д. Давыдова «Песня старого гусара» (1817): «Где друзья минувших лет, / Где гусары коренные». Отсылка эта, разумеется, контрастная: если Давыдов с романтическим осуждением наблюдал светское перерождение бывших боевых товарищей и собутыльников, то Ходасевич, напротив, декларировал свое отчуждение от неоромантических ценностей и жизненных практик раннего модернизма, которым он следовал в молодости.
Понятие «века» и переосмысление орфической оглядки соотносит стихотворение «Скала» со стихотворением Мандельштама «Век» (1922), напечатанным в журналах «Россия» (1922, № 4) и «Красная новь» (1923, № 1). О. Ронен указал, что отношения поэта с новым «веком» здесь проецируются на орфический миф (см. [Ронен 1983: 199]. Возможно, строки: «И в траве гадюка дышит / Мерой века золотой» [Мандельштам, 2009–2011, 1: 128] отсылали к истории о смерти Эвридики от укуса змеи. Рассеченное тело/хребет «гадюки»/«зверя» ассоциируется (не без звуковой переклички век – зверь) с «рассеченной», прерванной преемственностью человеческой истории. Соответственно, задачей искусства становится восстановить эту нарушенную преемственность: «Чтобы вырвать век из плена, / Чтобы новый мир начать, / Узловатых дней колена /
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Юлия08 ноябрь 18:57
Хороший роман...
Пока жива надежда - Линн Грэхем
Гость Юлия08 ноябрь 18:57
Хороший роман...
Пока жива надежда - Линн Грэхем
-
 Гость Юлия08 ноябрь 12:42
Хороший роман ...
Охотница за любовью - Линн Грэхем
Гость Юлия08 ноябрь 12:42
Хороший роман ...
Охотница за любовью - Линн Грэхем
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер