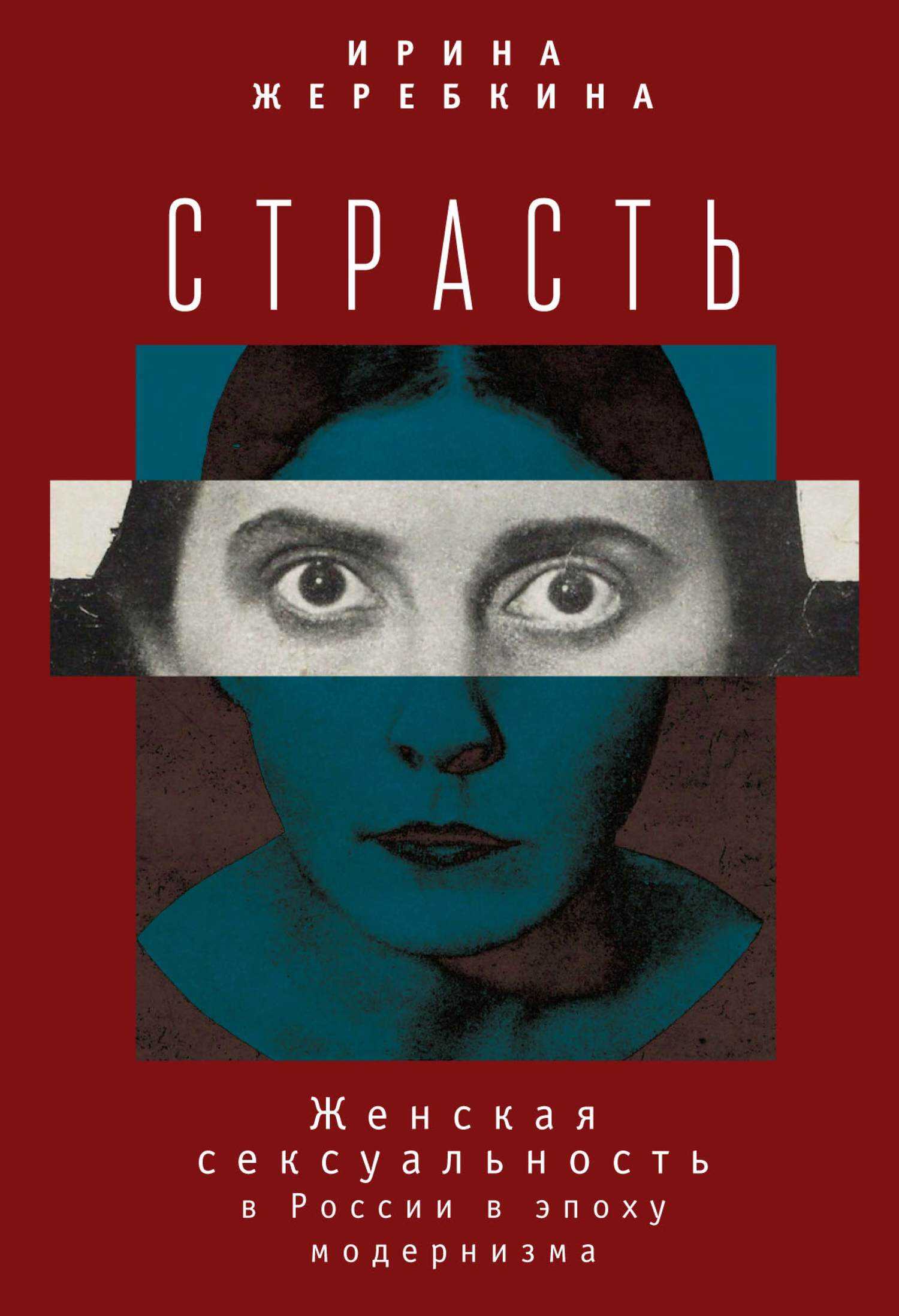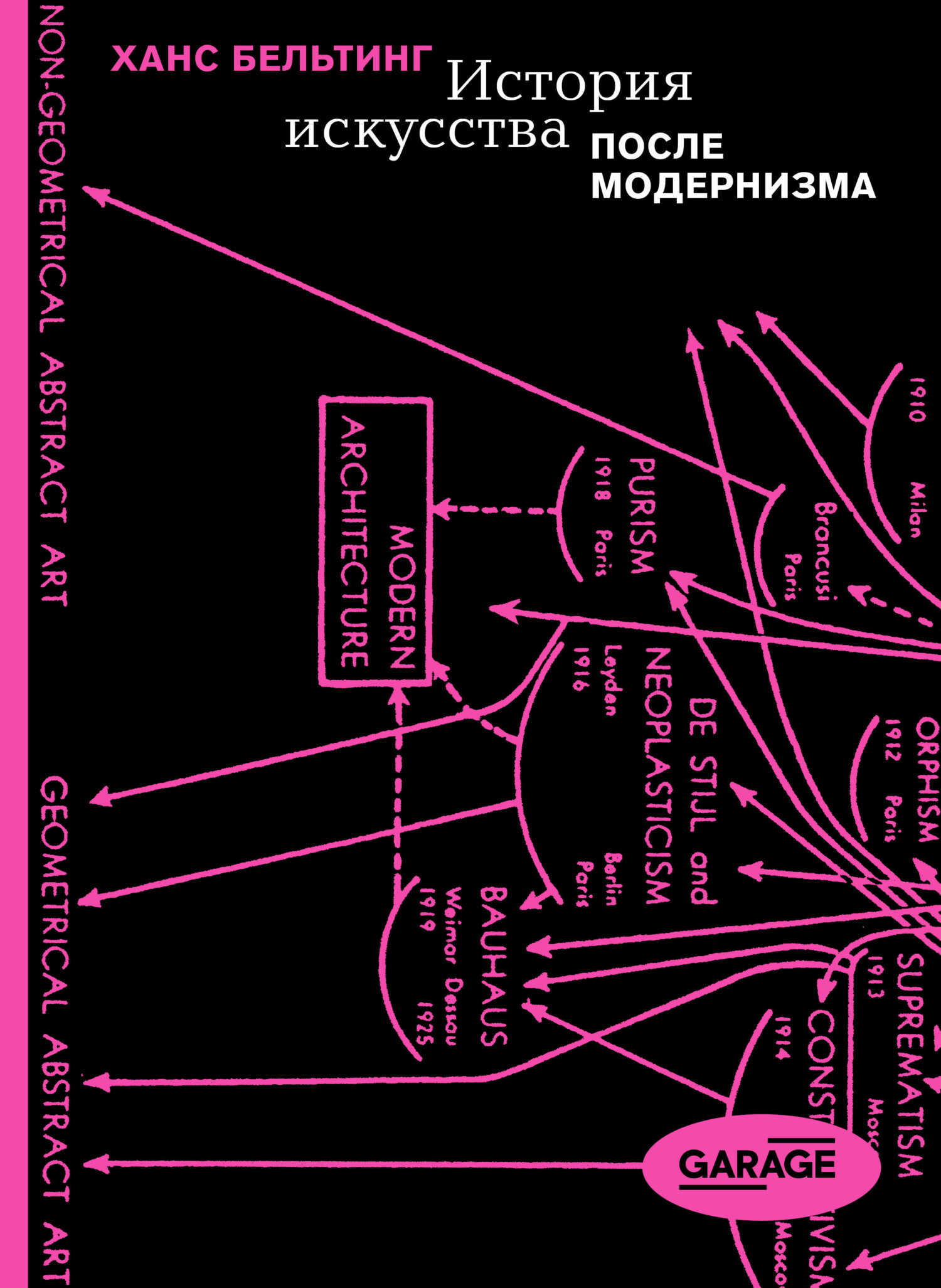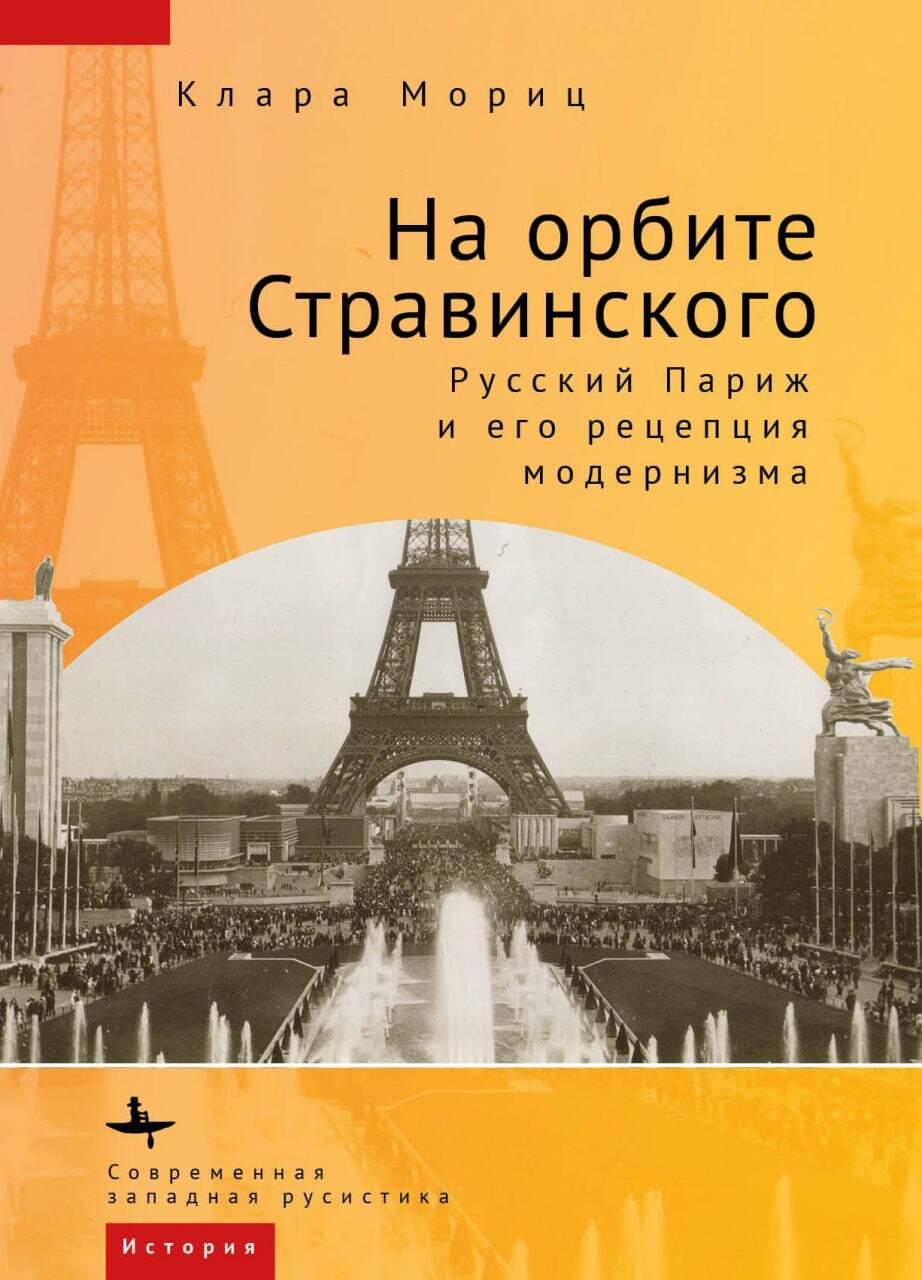Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
6 декабря 1928 года Б. Пастернак писал К. Федину:
Когда я писал 905‑й год, то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки с временем. <…> Мне хотелось дать в неразрывно-сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи. Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно дорого мне), с тем, что мне чуждо, для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы [Пастернак 2003–2005, 8: 268–269].
Эта попытка дать «в неразрывно-сосватанном виде» две эпохи, связать их в глазах современников и тем самым реабилитировать, идеологически спасти дореволюционное прошлое перекликается с задачей Мандельштама связать «двух столетий позвонки». Как мы видим, это понимание задач современного искусства разделял ряд «попутчиков». Само решение остаться в Советской России при возможности эмиграции в первые послереволюционные годы тоже могло объясняться задачей сберечь культурно-историческую преемственность на родине. В этом контексте можно вспомнить и дискуссию вокруг стихотворения Ахматовой «Жена Лота», в котором сходным образом оглядка героини интерпретировалась как утверждение непрерванной связи поэтессы с прошлым (см. [Тименчик 2014, 2: 214–215]). Сознавая определенную условность соотнесения мифологического и историко-литературного ряда, можно сказать, что на этом фоне выбор Ходасевичем эмиграции соотносится с его разнообразным осмыслением орфической «неоглядки» как предпочтительного решения «орфического комплекса» в литературе и жизни.
Именование Ходасевича «Арионом эмиграции», прозвучавшее в статье Мережковского «Захолустье», сослужило Ходасевичу двусмысленную службу, став внешним поводом для двух крайне враждебных выступлений Г. Иванова в статьях «В защиту Ходасевича» (Последние новости, 8 марта 1928) и «К юбилею В. Ф. Ходасевича (Привет читателя)» (Числа, № 2, 1930), подписанной псевдонимом «А. Кондратьев». Иванова задело прежде всего представление Ходасевича в качестве поэта, пришедшего на смену Блоку и не уступающего ему в поэтическом даре. В своих статьях Иванов умело заретушировал в литературном облике Ходасевича аспекты, наследующие блоковскому пониманию общественной роли поэта. С другой стороны, Иванов подал в гротескном преломлении черты поэтики Ходасевича, не соответствующие «блоковскому» мифу, ассоциирующемуся в первую очередь с понятием поэзии, рождающейся из духа музыки, с ее суггестивным, эмоционально-лирическим началом. Через много лет Г. Иванов в письме В. Маркову назовет «В защиту Ходасевича» «ужасающей статьей», по вине которой, как он будет считать, Ходасевич и перестанет писать стихи. Можно также обратить внимание на декапитационную образность, в которой Г. Иванов описывает свое «литературное убийство» Ходасевича:
Я очень грешен перед Ходасевичем – мы с ним литературно «враждовали». Вы вот никак не могли знать мою статью «В защиту Ходасевича» в «Последних Новостях» – ужасающую статью, когда он был в зените славы, а я его резанул по горлышку. Для меня это была «игра» – только этим, увы, всю жизнь и занимался – а для него удар, после которого он, собственно, уже и не поднялся (цит. по [Богомолов 1999: 381]).
Возможно, эта декапитационная образность, задействованная в игривом, сниженном регистре уголовного жаргона, эксплицировала заложенные в образе Ходасевича как «Ариона эмиграции» орфические ассоциации.
Нужно сказать, что орфическая образность по-своему подсвечивала известное противостояние Ходасевича и Г. Иванова (см. [Арьев 2002]), что также могло предрасположить последнего к агрессивной декапитационной метафорике. Орфическая составляющая спора заключалась в том, что в своей зрелой поэзии, как известно, Г. Иванов культивировал связанные с именем Блока романтически-музыкальные, орфические начала и, значит, мог думать, что он больше заслуживает номинацию наследника Блока. Впоследствии И. Одоевцева считала, что в проявлении этих начал Иванов превзошел самого Блока. В статье «Поэт и человек», затем вошедшей в ее воспоминания, она писала, что З. Гиппиус называла Г. Иванова «идеалом поэта – поэтом в химически чистом виде». Одоевцева продолжала:
С тем, что Георгий Иванов был «поэтом в химически чистом виде», я вполне согласна. Ни один из известных мне поэтов, ни Блок, ни Мандельштам, не воплощали так полно и явственно стихию поэзии – как он. Никто из них не был так орфеичен. Он действительно был абсолютным воплощением поэта. <…> Один знакомый мне антропософ рассказывал, что приехавшая в Париж шведка антропософка, занимавшаяся эвритмией и не знавшая русского языка, прослушала ряд стихов русских поэтов от Пушкина до наших дней и выбрала из всех поэтов – по звуковому и мелодийному совершенству – только стихи Лермонтова и Георгия Иванова [Одоевцева 1978: 13].
Итак, «орфеическое» начало по Одоевцевой означало «звуковое и мелодийное совершенство» стиха. Такое понимание соответствовало неоромантическому, «символистскому» определению музыки как высшего искусства, наследовавшего пифагорейской теории музыкальной гармонии сфер. Зрелая поэзия Ходасевича очевидным образом отходила от такого «звукового и мелодийного совершенства»232.
Сравнением поэзии Ходасевича и Г. Иванова по шкале музыкальности руководствовался в ряде критических работ и В. Ф. Марков. В статье Georgy Ivanov: Nihilist as Light-Bearer музыкальной «естественности» поэзии Иванова он противопоставлял «Балладу» Ходасевича:
В последнем стихотворении книги, знаменитом «Орфее», где поэт механически (при помощи качания) доводит себя до состояния транса, в котором, как ему кажется, он слышит Музыку. Музыка эта, однако, отсутствует в стихах
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Юлия08 ноябрь 18:57
Хороший роман...
Пока жива надежда - Линн Грэхем
Гость Юлия08 ноябрь 18:57
Хороший роман...
Пока жива надежда - Линн Грэхем
-
 Гость Юлия08 ноябрь 12:42
Хороший роман ...
Охотница за любовью - Линн Грэхем
Гость Юлия08 ноябрь 12:42
Хороший роман ...
Охотница за любовью - Линн Грэхем
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер