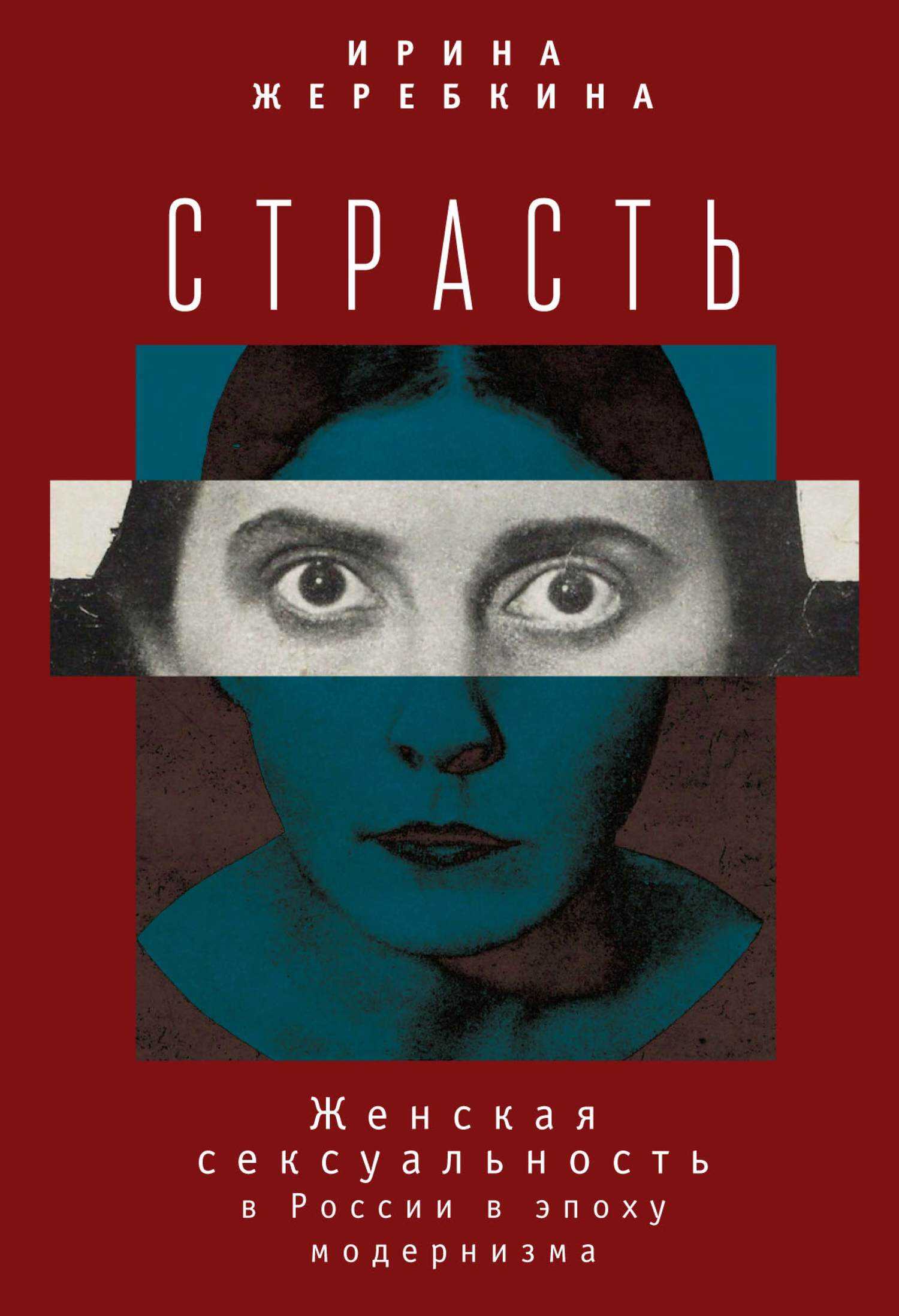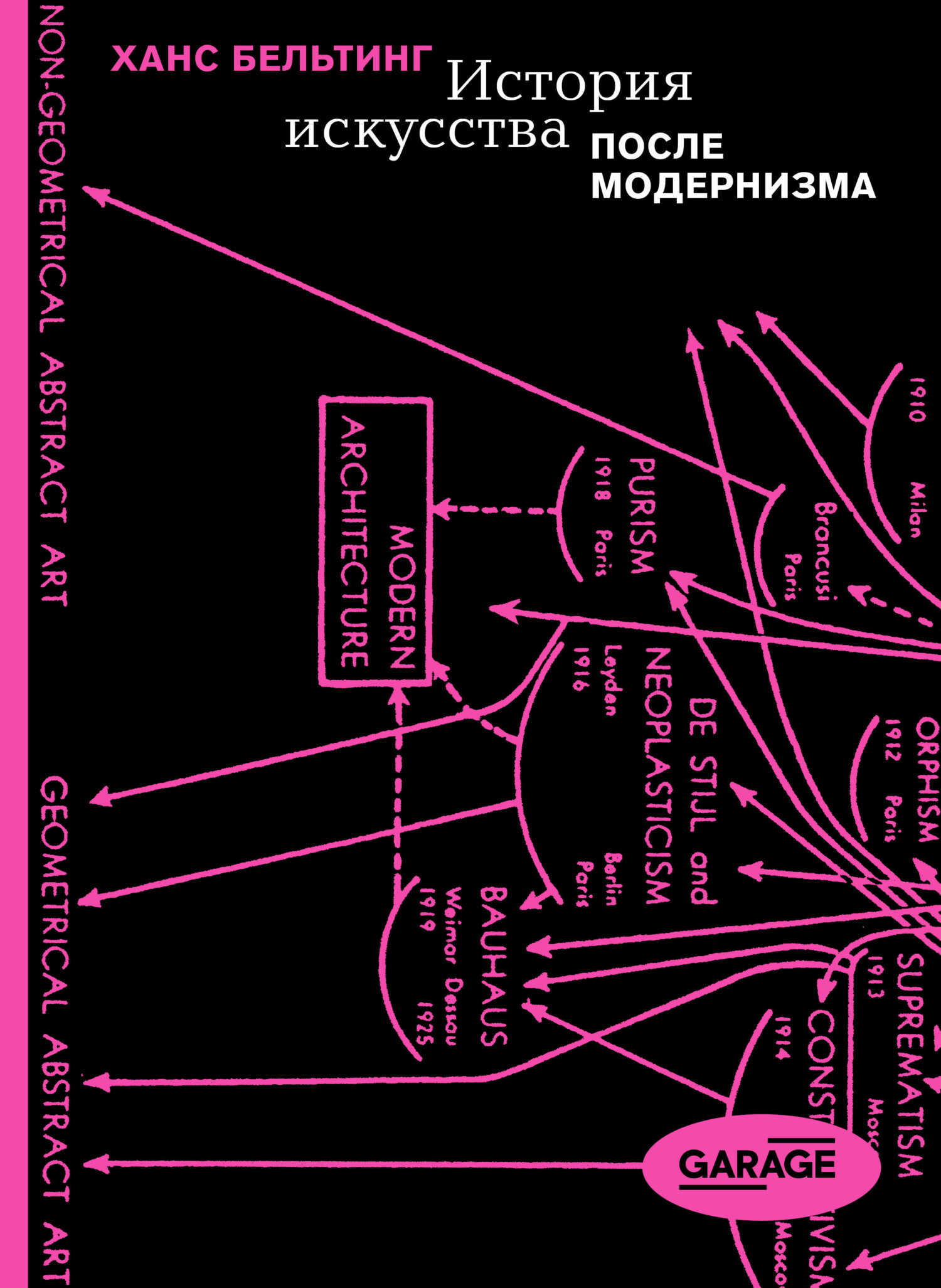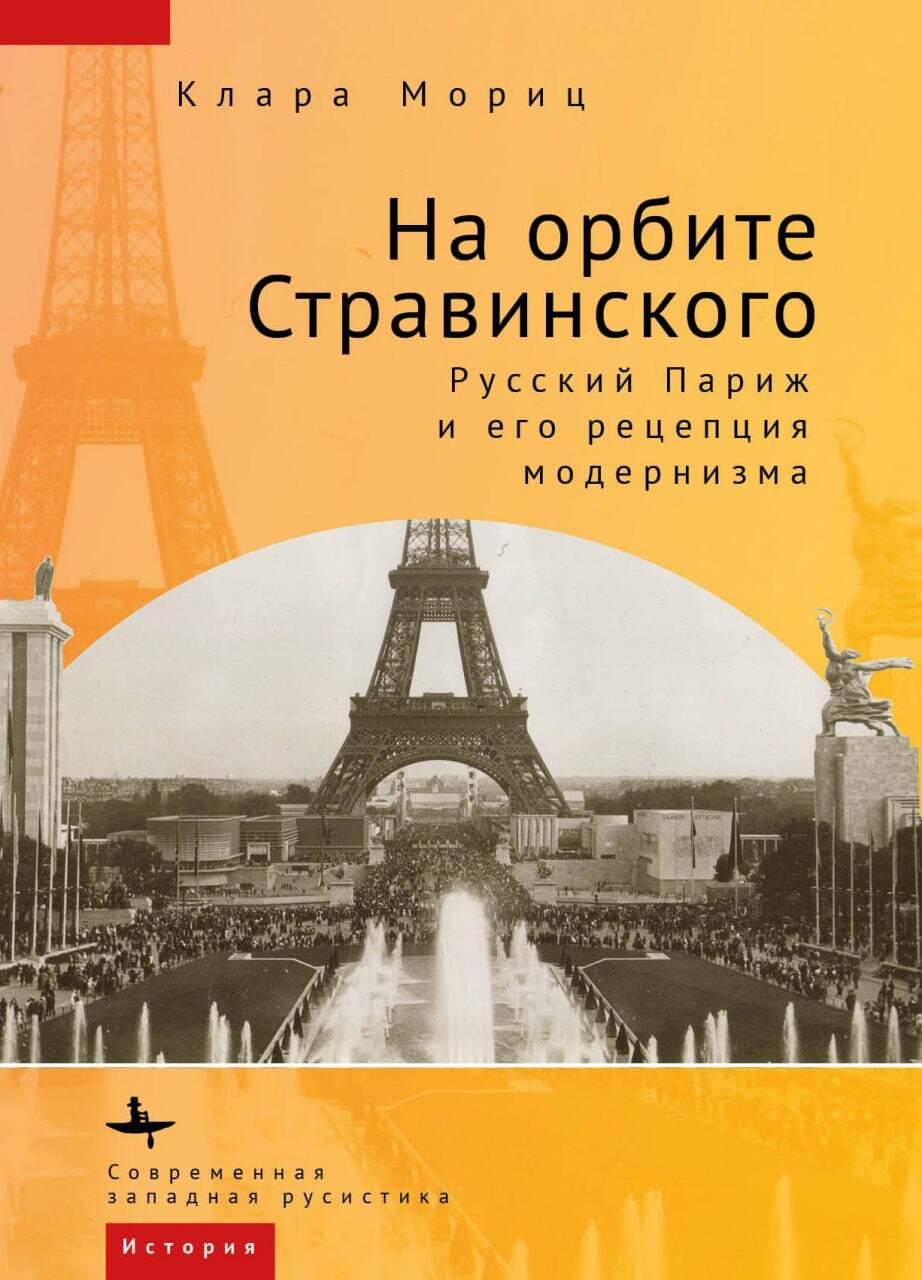Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы из каменных глыб создаем города…
Любим ясные мысли и точные числа,
И душе неприятно и странно, когда
Тянет ветер унылую песню без смысла
[Иванов Г. 1994, 1: 493].
(Нео)романтической семантизации стихийного начала как «соприродного» человеческой душе противопоставляется (акмеистская) ценностная и онтологическая автономизация человеческого опыта и волевая, активная (а не «пассивная», как в «символизме») позиция по отношению к «стихиям»:
Или море шумит. Ни надежда, ни страсть,
Все, что дорого нам, в них не сыщет ответа.
Если ты человек – отрицай эту власть,
Подчини этот хор вдохновенью поэта [Там же].
Противопоставление надындивидуальных стихийных сил и человеческой воли полемически отсылает к комплексу идей, восходящих к тютчевскому стихотворению «Певучесть есть в морских волнах…», «где человек предстает отчужденным от „созвучья полного в природе“, от „общего хора“, согласного пению моря». Как показал А. Блюмбаум, эта тютчевская парадигма легла в основу блоковского образа «мирового оркестра» (см. [Блюмбаум 2015: 7], [Жирмунский 1977: 226]). Предположу, что именно к этому идейному комплексу относится образ «хора» в стихотворении Иванова.
Наконец, Иванов отрицает необходимость орфической мифологизации современного поэта, предпочитая представить его энергичным, современным «укротителем зверей» по одноименному стихотворению Гумилева 1911 года:
И пора бы понять, что поэт не Орфей,
На пустом побережьи вздыхавший о тени,
А во фраке, с хлыстом, укротитель зверей
На залитой искусственным светом арене
[Иванов Г. 1994, 1: 493].
Усилительная темпоральная конструкция «и пора бы понять» предполагает нетерпеливую досаду по отношению к тем, кто продолжает линию орфической мифологизации в современной поэзии.
Кроме трансцендентного «хора» Блока, поданная в уничижительном ключе натурфилософская образность отсылает к обсуждаемому ранее топосу поэта как резонатора природных стихий, представленному в доакмеистических стихах «Камня» и в разделе «Пленные шумы» «Счастливого домика». Строки «И пора бы понять, что поэт не Орфей, / На пустом побережьи вздыхавший о тени» могут также непосредственно отсылать к тематике и элегическому тону стихотворения Ходасевича «Возвращение Орфея». В этом отношении полемичность стихотворения Иванова кажется запоздалой примерно на десять лет. И Мандельштам, и Ходасевич после написания своих «раковинных» стихотворений вскоре откажутся от такого неоромантического понимания роли поэта и станут воспринимать ее не в натурфилософской, но в историко-культурной перспективе.
Однако антимифологизм стихотворения Иванова мог быть направлен и против попытки Ходасевича в «Балладе» актуализировать религиозно-философское наследие раннего модернизма. В этом отношении в противостоянии Ходасевича и Иванова видится противостояние двух вариантов умеренного крыла зрелого модернизма. Эти два крыла оформились в это время как группы «последователей Блока» и «последователей Гумилева». Ходасевичу приписывалась главенствующая роль в первой группе, в то время как Иванов очевидным образом принадлежал ко второй (см. [Чуковский Н. 1989: 105]). Его стихотворение, таким образом, оказывалось репликой в противостоянии этих двух «школ». «Школа Блока» пыталась интегрировать мистико-религиозное наследие в умеренную поэтику зрелого модернизма. Школа Гумилева больше склонялась к неопарнасскому эстетизму и культу мастерства. Причем сам Гумилев в позднем творчестве был менее категоричен, чем его ученики, в «очищении» поэзии от мистико-религиозного наследия. Стихотворение Иванова и представляет собой пуристский манифест школы Гумилева.
Но в «Балладе» на первый план выдвинут аспект мифа, который скорее роднит ее со стихотворением Иванова, – новое, «современное» переосмысление заклинательной силы поэзии, выразившейся в образе Орфея, подчиняющего пением диких зверей. К этому плану подключается и стихотворение Мандельштама «Зверинец» (1916), где заклинательная сила поэта получает историософскую тематизацию. Война представляется регрессией цивилизационного развития: «Козлиным голосом опять / Поют косматые свирели». Поэт призван заворожить и усмирить «одичалые» народы, представленные в образах геральдических зверей:
Петух и лев, широкохмурый
Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен —
Источник речи италийской —
И, в колыбели праарийской,
Славянский и германский лен!
[Мандельштам 2009–2011, 1: 91].
Но в отличие от мифического Орфея, который способен заворожить пением диких зверей, поэт-цивилизатор в «Зверинце» действует с «дикостью» жесткими цивилизаторскими мерами – он «изобретает» огонь, как Прометей, чтобы отогнать диких зверей, и заключает их в «клеть»:
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье! [Там же: 90–91]
Мандельштам, как и Г. Иванов в «Мы из каменных глыб создаем города…», по сути, отказывается от заложенных в орфическом мифе и затем использованных в (нео)романтизме натурфилософских представлений о родстве человеческого и природного мира. В отличие от неоромантиков, с их устремлениями в модернизме приобщиться к «дикости» (в том числе и в форме войны) как к источнику творческого обновления236, Мандельштам характерно для неоклассика предпочитает культуру природе и ограничивает свою певческую деятельность пространством человеческой истории и культуры. Соответственно, в конце стихотворения вместо войны поэт предлагает сублимированную форму агрессии – искусство или «буйство танца» как заключение в аполлоническую монаду дионисийской стихии:
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек [Там же: 91]237.
Во всех приведенных случаях поэты предлагали свои варианты по модернизации топоса Орфея – усмирителя диких зверей. Переняв образ укротителя из стихотворения Гумилева, Иванов его упростил и схематизировал. В своем стихотворении Гумилев изначально отстраняется от стереотипного образа «мужественного укротителя»: «Снова заученно-смелой походкой / Я приближаюсь к заветным дверям». Цирковые «пестрые звери» служат лишь фоном для обнаружения второй, «истинной» реальности, где перед укротителем предстает другой зверь: «Только… я вижу все чаще и чаще / (Вижу и знаю, что это лишь бред) / Странного зверя, которого нет, / Он – золотой, шестикрылый, молчащий» [Гумилев 1998, 1: 109]. Этот библейский зверь и губительная любовь к циркачке показывает, как Гумилев оригинально переосмыслял в свете индивидуального мифа и поэтики зрелого модернизма темы Апокалипсиса и женщины-вамп238, почерпнутые из культуры fin de siècle: «Если мне смерть суждена на арене, / Смерть укротителя, знаю теперь, / Этот, незримый для публики, зверь / Первым мои перекусит колени. // Фанни, завял вами данный цветок, / Вы ж, как всегда, веселы на канате, / Зверь мой, он дремлет у вашей кровати, / Смотрит в глаза вам, как преданный дог» [Там же: 109–110].
Стихотворение Иванова переподчиняет все потусторонние силы власти современного
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт