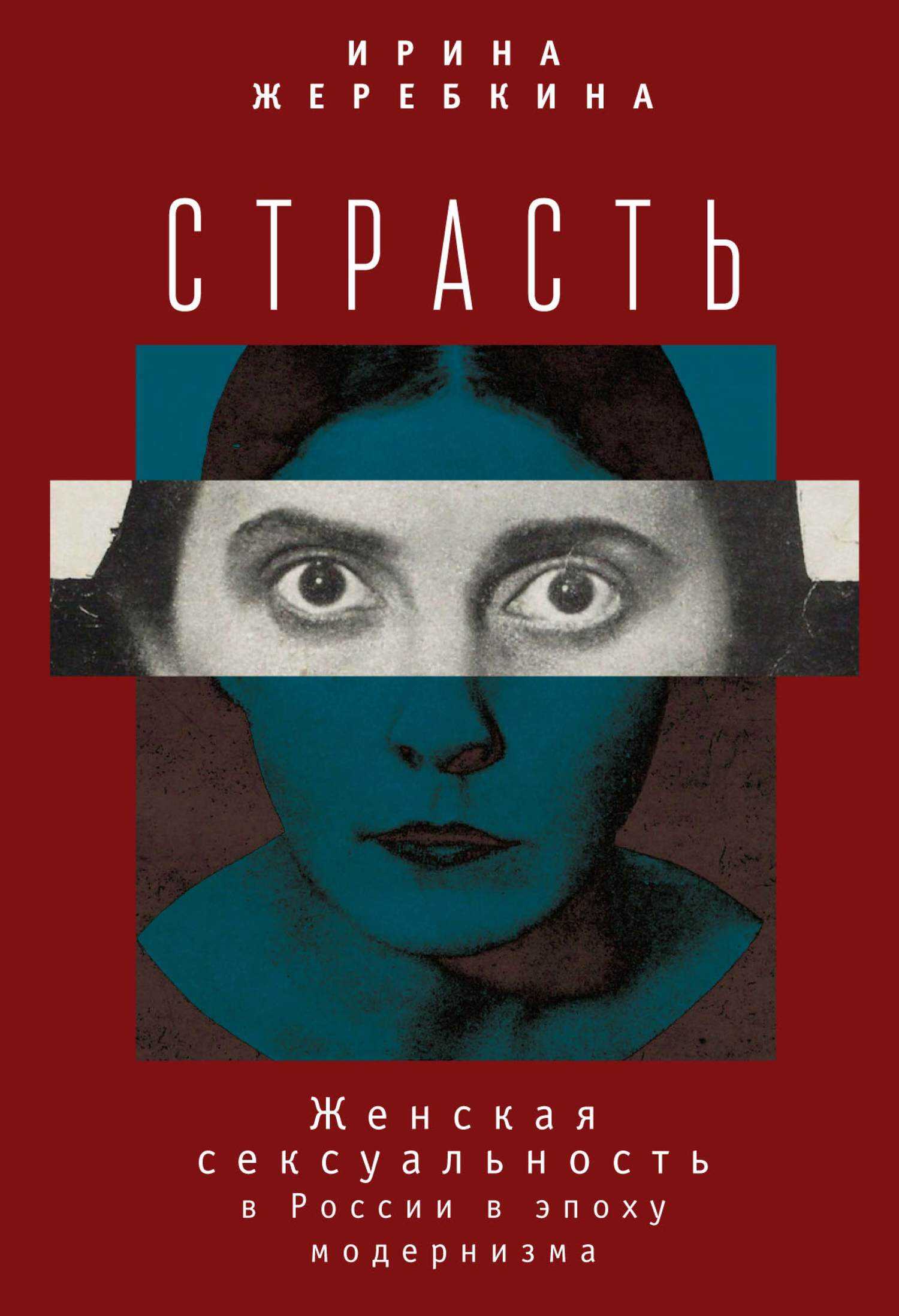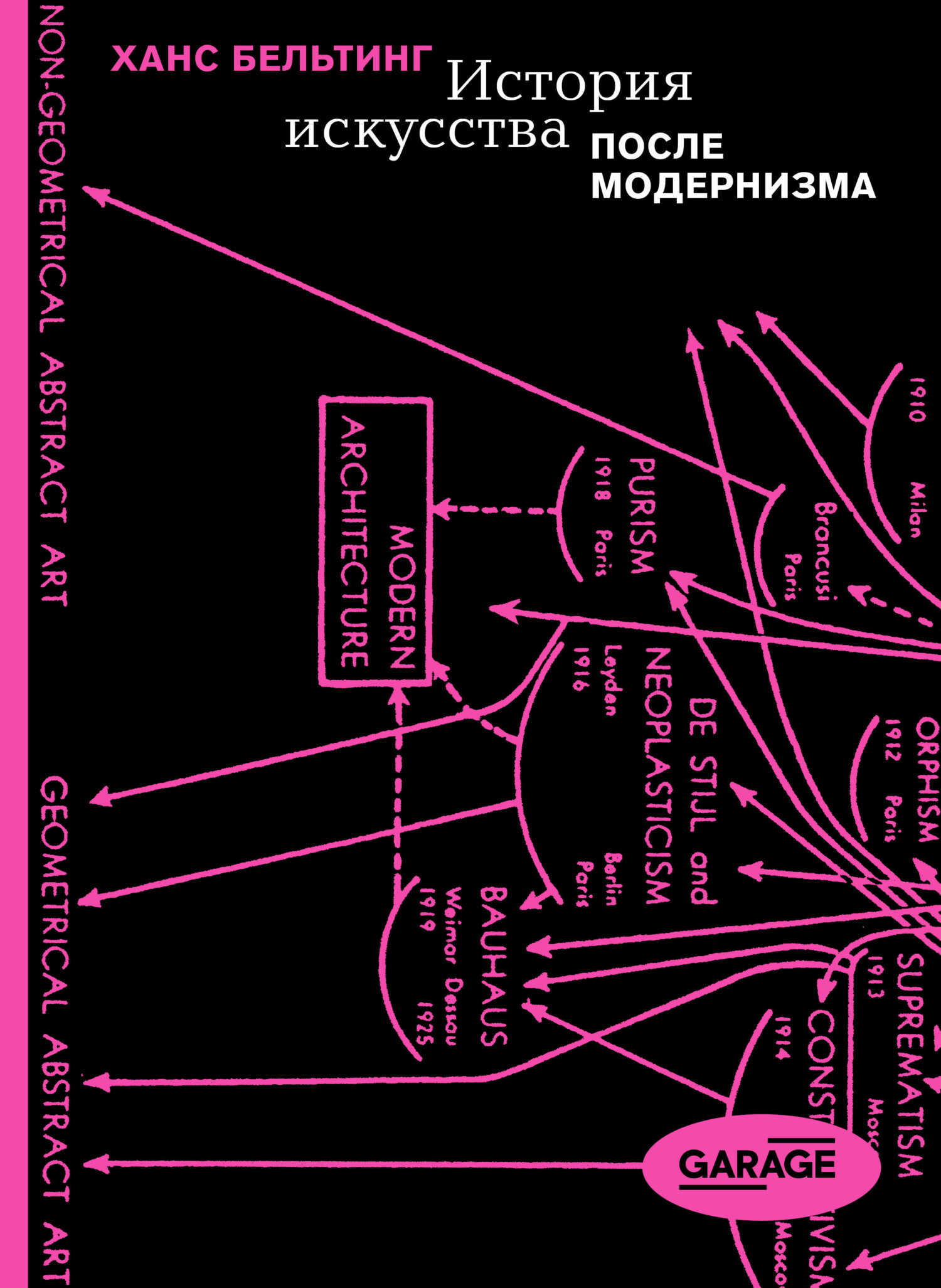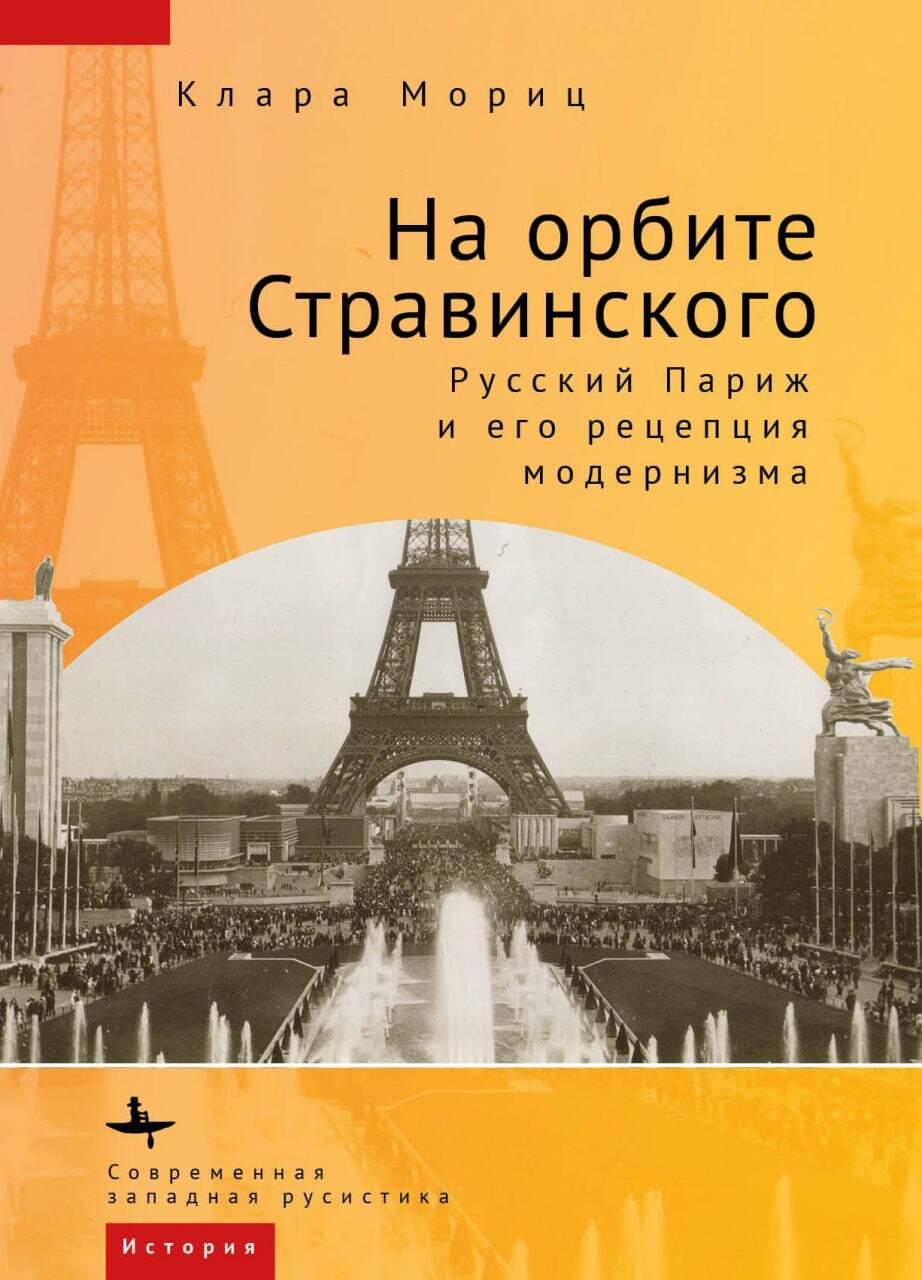Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд
Книгу Умеренный полюс модернизма. Комплекс Орфея и translatio studii в творчестве В. Ходасевича и О. Мандельштама - Эдуард Вайсбанд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У Мирского «подполье» Ходасевича анахронически смещается с утверждения ценности частного бытия, пусть и подсвеченного «голубой ртутью», в сторону декадентского имморализма. Упомянув «Господ Головлевых», Мирский характерно вписывает Гиппиус и Ходасевича в общую парадигму вырождения. При этом полемичность Мирского направлена часто против новаторских тенденций в творчестве Ходасевича. В частности, фраза «любимый поэт всех тех, кто не любит поэзии» указывала на неприятие Мирским (сходное с неприятием Марковым) попыток Ходасевича преодолеть инерционные черты современной неоромантической поэтики.
Не совсем правомерное соположение Ходасевича и Мережковских встречается также у Г. Адамовича, но уже с других, чем у Мирского, позиций. В напечатанной 9 января 1927 года в «Звене» рецензии на вышедший в конце 1926 года второй номер «Нового дома» он инкриминировал Ходасевичу антипоэтический подход Мережковских:
Статья В. Ф. Ходасевича «Цитаты» в некотором отношении очень похожа на статью А. Крайнего. Все будто бы и благополучно, но выводы лучше не делать. Ужасные были бы выводы!
У Ходасевича не то что сказано, но как-то многозначительно промолчано, что поэзия в существе своем не мироустроительна, но мироразрушительна. Рядом Д. С. Мережковский намекает: «Данте говорит стихами, но ведь и Смердяков любит стишок» [Адамович 1998, 2: 141–142].
Речь здесь идет о статье Ходасевича «Цитаты» (затем переделанной в статью «Кровавая пища», 1932), которая разработкой темы сверхличной биографии писателей предваряла стихотворение «Мы»:
Мы, писатели, живем не своей только жизнью. Рассеянные по странам и временам, мы имеем и некую сверхличную биографию. События чужих жизней мы иногда вспоминаем как события нашей собственной. История литературы есть история нашего рода; в известном, условном смысле – история каждого из нас [Ходасевич 2009–2010, 2: 375].
Статья «Цитаты» напечатана во втором номере журнала «Новый дом» (статья Гиппиус «Прописи», которую упоминает Адамович, появилась в первом номере этого журнала) сразу вслед за статьей Д. Мережковского «О мудром жале» и выказывала существенное расхождение с ней по вопросу о «пророческом начале» русской литературы244. Для Мережковского пророческая традиция русской литературы заключается в ее критике:
От «горестных замет» Пушкина, первого русского критика, через «Философические письма» Чаадаева и гениальную все еще не понятую «Переписку с друзьями» Гоголя до «Дневника писателя» Достоевского к Вл. Соловьеву и Розанову, – вот критический, пророческий путь русской литературы. Он оборван с бытием России; с ним же будет и восстановлен.
Критика – пророческая мысль – есть жало поэзии. Поэзия без мысли – змея без жала.
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
Это мудрое жало нам сейчас нужнее, чем когда-либо [Мережковский 2001: 235–236].
Мережковский утверждает первостепенное, «пророческое», значение критического, идеологического компонента в литературной деятельности. Статья «Цитаты» Ходасевича предлагала альтернативную систему ценностей.
В этой подспудной полемике можно услышать эхо спора о назначении поэзии периода кризиса символизма 1910 года. Тогда, с одной стороны, выступали «теурги» Вяч. Иванов и Блок с их трансэстетической программой, и с другой – «эстет» Брюсов. Спор 1926 года, однако, сместил полемичные акценты. С неизменных позиций раннего модернизма, выраженных уже в статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), Мережковский утверждал приоритет критической мысли как ведущей инстанции в литературном процессе. Ходасевич, однако, пытался совместить мистико-теургическое определение поэта как пророка «духовной революции», переосмысляющее в раннемодернистском ключе интеллигентский миф о писателе как пророке, с эстетической доминантой зрелого модернизма. В «Цитатах» он экстраполировал представление о дионисийско-орфическом спарагмосе на трагические эпизоды истории русской литературы:
Народ должен побивать, чтобы затем «причислять к лику», приобщаться к откровению побитого. Избиение пророка есть жертвенный акт, заклание, кровавая связь между ним и его народом, будет ли это народ русский или всякий другой. В жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное. Изничтожение поэтов по самой сокровенной природе своей глубоко ритуально, хоть это и не сознается. В русской литературе оно прекратится тогда, когда в ней иссякнет родник пророчества [Ходасевич 2009–2010, 2: 381].
Мы видим, что Ходасевич, как и многие другие модернисты, в историко-литературных работах отходит от позитивистских принципов историзма.
История русской литературы – как и других национальных литератур – обретает черты ритуального действа вокруг жертвенной фигуры поэта-пророка как современное воплощение «религии страдающего бога» по Вяч. Иванову. Исходя из аналогичного религиозно-мифологического осмысления действительности в статье Мандельштама «Скрябин и христианство», смерть композитора «получает глубокий религиозный смысл» [Мандельштам 1991: 73].
По-видимому, это ритуальное прочтение истории русской литературы позволило Адамовичу назвать позицию Ходасевича «мироразрушительной» и соотнести ее с трансэстетической позицией Мережковского. Отмечу, однако, что позиция Ходасевича по отношению к историзму и модернистскому антиисторизму была ситуативна и зависела от конкретных историко-литературных задач. В иных случаях Ходасевич сам выступал против символистской семиотизации жизни и истории сквозь призму той или иной мифологемы или ритуала. В «Цитатах», однако, программная экспликация ритуальной основы русской литературы утверждала Ходасевича законным наследником или «последним представителем» младших символистов. Одновременно он таким образом отвоевывал для поэзии «пророчественный» капитал, зарезервированный Мережковским за критикой. Такое утверждение за поэзией пророческой и жертвенной роли в корне отличалось от подспудного подрыва самостоятельного значения поэзии в словах Мережковского, процитированных Адамовичем.
Адамович, однако, игнорировал разницу между раннемодернистами Гиппиус и Мережковским с их очевидной приоритизацией идеологического высказывания и зрелым модернистом Ходасевичем, который пытался усилить общественное и одновременно метафизическое значение поэзии при помощи делегирования ей ритуальной сущности. Выступая в данном случае с позиций крайнего эстетизма, Адамович сводил все три статьи к одному знаменателю «спасительной прописной
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
Фрося07 ноябрь 22:34
Их невинный подарок. Начала читать, ну начало так себе... чё ж она такая как курица трепыхаться, просто бесит её наивность или...
Их невинный подарок - Ая Кучер
-
 Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
Мари07 ноябрь 13:49
Почему -то в таких историях мужчины просто отпад, не проявляют своих негативных качеств типа предательства, измены, эгоизма и по,...
Куколка в подарок - Ая Кучер
-
 Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт
Людмила.06 ноябрь 22:16
гг тупая, не смогла читать дальше, из какого тёмного угла выпала эта слабоумная, и наглая. Неприятная гг, чит а ть не возможно, и...
Нелюбимый муж. Вынужденный брак для попаданки - Кира Райт