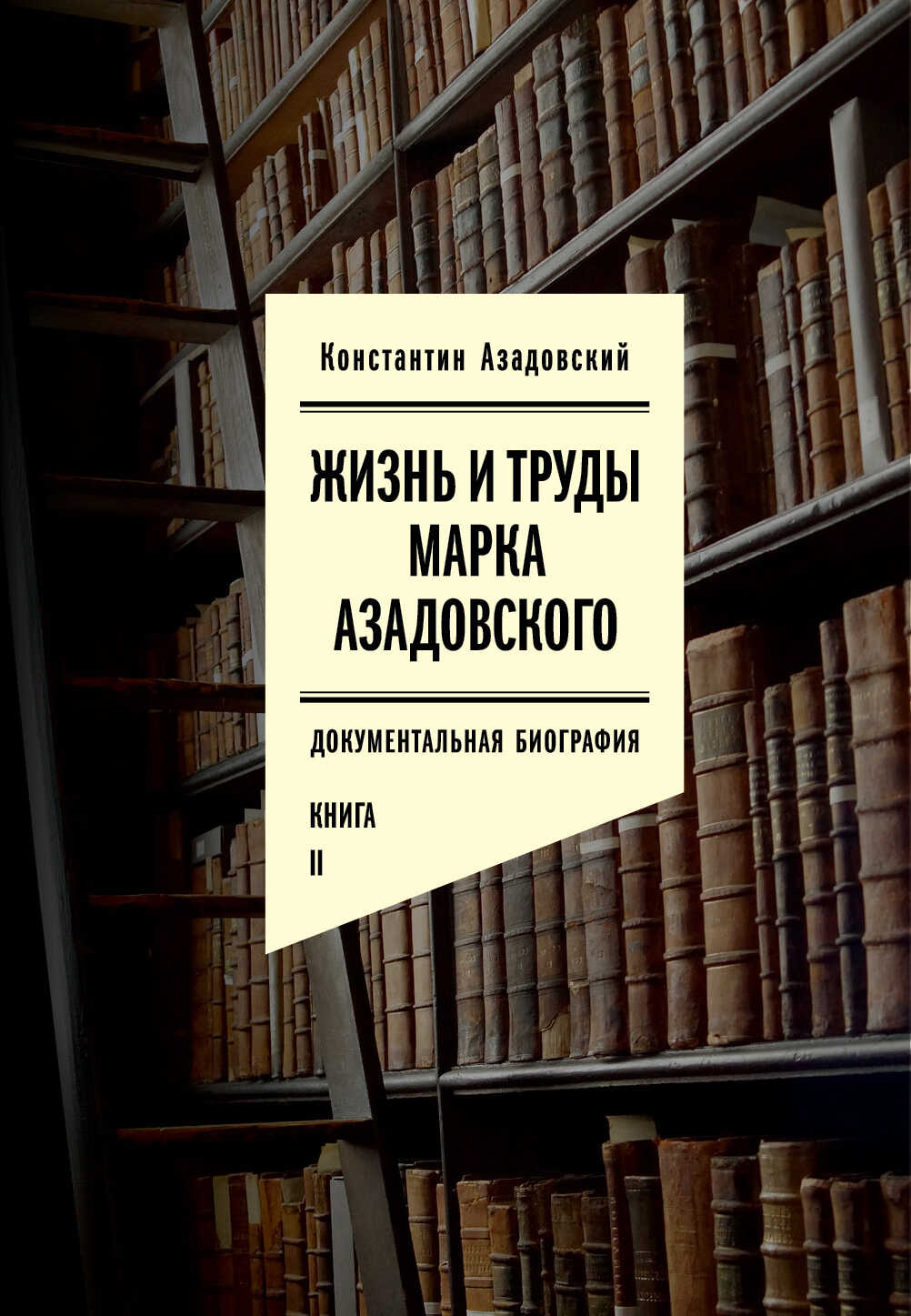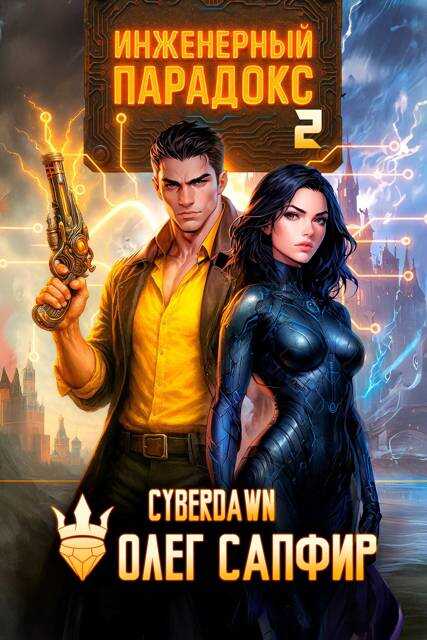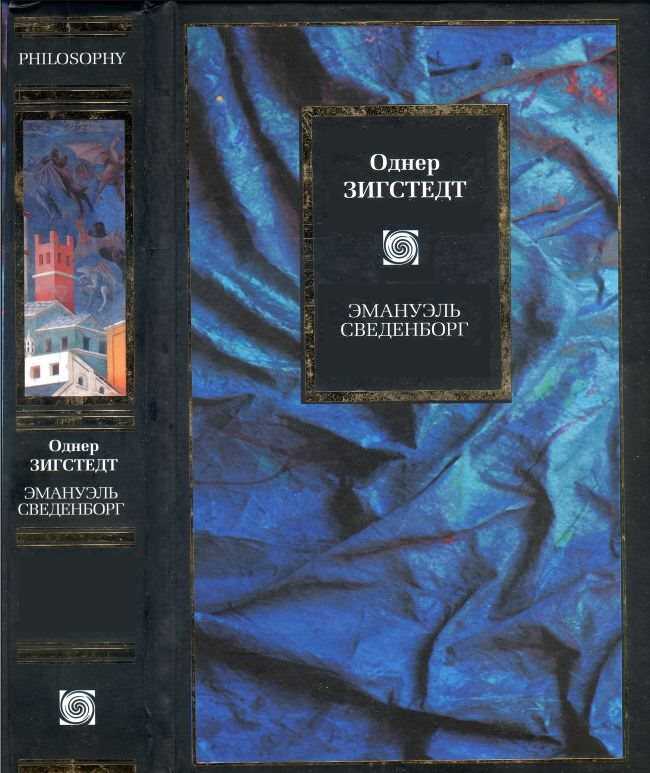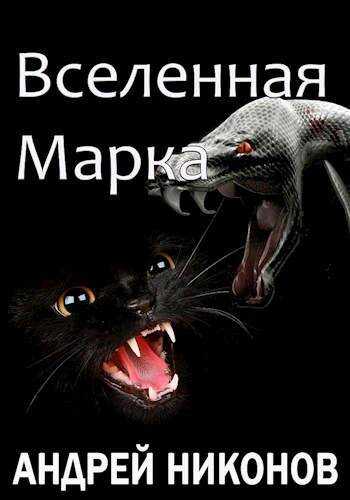Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I - Константин Маркович Азадовский
Книгу Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I - Константин Маркович Азадовский читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рецензия была написана в сентябре 1929 г. и отправлена в Ленинград Л. В. Булгаковой, ученому секретарю Института книговедения. Судя по письму к библиографу А. Г. Фомину, научному сотруднику института, от 22 сентября 1929 г., М. К. надеялся, что его рецензия сразу же пойдет в печать[87]. Действительно, 25 ноября 1929 г. Булгакова сообщила М. К., что рукопись «сдается в набор в первых числах декабря в очередном III-м сборнике „Книга о книгах“» (62–17). Однако печатание третьего сборника затянулось, и рецензия увидела свет лишь в середине 1931 г. под названием «К методологии декабристской библиографии»[88].
В этой рецензии М. К. затрагивает ряд методологических вопросов – настолько важных, что ее следует рассматривать скорее как самостоятельную статью, нежели как обычную рецензию на библиографический указатель, с традиционным перечнем неучтенных работ. (Именно так оценили эту рецензию составители иркутского двухтомника, включив ее в корпус основных декабристоведческих трудов М. К.) Содержательный комментарий к этой статье-рецензии, выполненный А. А. Ильиным-Томичем[89], освобождает нас от необходимости углубляться в подробности. Отметим лишь основную идею Азадовского, впервые высказанную им в рецензии на книгу В. Селиванова «Декабристы, 1825–1925. Систематический указатель русской литературы» (Л., 1925)[90] и подробно обоснованную в данной статье: библиограф не может быть только регистратором, пусть даже опытным, имеющим дело с заглавиями или выходными данными, он должен быть также эрудированным специалистом – знатоком той области знания, которую исследует. «Только специалист, – утверждал М. К., – сможет правильно разрешить проблему классификации, только специалист сумеет глубоко захватить источники, обнаружив целый ряд новых материалов, наконец только специалист сможет разрешить проблему отбора, которая всегда в той или иной степени стоит перед библиографом». Подход библиографа должен быть историческим. Поэтому, заключает М. К., с точки зрения методологической книга Ченцова «отнюдь не является фактом прогрессивным – она держит по-прежнему библиографическую работу на уровне прежних методов и требований, а в некоторых случаях даже снижает их, например, в части историко-литературной»[91].
«Острее трудно было поставить вопрос о квалификации и компетенции библиографа», – так отозвался об этой рецензии спустя четверть века книговед А. Д. Эйхенгольц, признавший М. К. «новатором»[92].
Иначе оценила эту рецензию С. В. Житомирская. Далеко не все в критике М. К., полагает исследовательница, можно считать обоснованным. Труд Ченцова, по ее мнению, не давал М. К. оснований упрекнуть автора в недостаточности специальных знаний:
Указанные в рецензии Азадовского недостатки этого труда отражали, в сущности, объективный достигнутый к тому времени уровень и декабристоведения, и библиографии. Воззрения же Азадовского, его требования к методологии (точнее – методике) библиографической работы этот уровень далеко опережали[93].
Любопытен и, видимо, справедлив окончательный вывод С. В. Житомирской, полагавшей, что принцип, на котором настаивал М. К., вообще утопичен:
Мысль о крупном специалисте как идеальном библиографе литературы по своей отрасли знания, утопическая и в 20‑х гг., впоследствии вступала в еще более острое противоречие с все углублявшейся в науке узкой специализацией ученых. Поэтому развитие библиографии пошло иным путем. Составление специальных библиографий стало делом специалистов-библиографов, в достаточной степени владеющих предметом и применяющих исследовательские методы атрибуции, но осуществлялось, как правило, под руководством крупных ученых в данной области[94].
Все это, очевидно, так. Необходимо только добавить, что М. К. и представлял собой тип такого идеального библиографа-специалиста. Предъявляя Ченцову или другим авторам определенные требования, он невольно отталкивался от собственного понимания библиографической работы и собственной практики, в которой неразделимо соединялись и профессионал-библиограф, и историк-декабристовед, и этнограф, и фольклорист, и литературовед…
Глава XVI. Конфликты
Ситуация М. К. после переезда в Иркутск оказалась далеко не простой: то и дело возникали разного рода сложности. Творческая натура ученого, непрерывно «генерировавшего» новые планы и замыслы, задыхалась в плену официальных ограничений. Работать приходилось с оглядкой на партийные органы, местную администрацию и, разумеется, цензуру; идеология все назойливее вмешивалась в деятельность как научных учреждений, так и самих ученых. Омрачали жизнь и другие проблемы, в том числе разногласия внутри профессионального сообщества.
С трудностями цензурного порядка М. К. столкнулся еще в 1924 г. при издании верхнеленских сказок. Советская власть, объявившая войну религии, церкви, суевериям и прочим «пережиткам», подозрительно относилась к устному народному творчеству, народным верованиям и обрядам. «Народ», трактуемый как патриархальное крестьянство, и «отсталая» деревенская культура не вписывались в «пролетарскую» идеологию. Это распространялось и на публикацию фольклора. В письме от 25–28 апреля 1924 г. к Ольденбургу М. К. сообщал, рассказывая о публикации «Верхнеленских сказок»:
Добиться разрешения на печатание сказок было весьма нелегко. Было очень трудно доказать, что эти «старушечьи бредни» имеют какую-то ценность. Затем – первоначально были исключены всякие упоминания мало-мальски религиозного характера. Даже такие выражения, как «славо богу», «вот-те христос», «перекрестился», зачеркивались цензором. Часто нарушался ритм, а иногда и весь смысл[1].
В связи с этим М. К. просил Ольденбурга о помощи:
Нам нужно иметь за собой Центр<альные> органы как нечто, на что мы можем постоянно опираться в своей работе. Опубликуйте от имени Сказ<очной> Комиссии[2] или еще лучше от ЦБК обращение о собирании сказок, о значении таких работ и т. п. – и мы спасены[3].
Вмешательство цензуры затрагивало не только фольклор, но и чисто этнографические изучения. «У меня далеко нет уверенности, что удастся спокойно приступить и к дальнейшему продолжению „Сибирской живой старины“. Причины те же»[4], – сетует М. К. в том же письме к Ольденбургу. Однако поддержка академика и несколько одобрительных откликов на «Сибирскую живую старину» в центральной печати возымели, видимо, определенное действие на иркутских цензоров; издание продолжалось.
Идеологическое давление ощутимо мешало работе. В письме к Юрию Соколову от 14 сентября 1926 г. (из Иркутска) М. К. признавался:
Да, уж больно трудно мне работать в наших местных условиях. В университете положение складывается так, что вот уже второй год я не имею возможности читать фольклор: я вынужден читать курсы по истории древней литературы, по поэтике, по методологии и даже западноевропейской литературе. Все это требует большой затраты времени на подготовку – и в результате стоят без движения (вернее, лежат) мои прямые работы[5].
Одновременно – приблизительно в середине 1920‑х гг. – в работе М. К. возникают другие трудности, причем непредвиденные; они касались в первую очередь его отношений с некоторыми из коллег.
6 мая 1926 г. Азадовский сообщил Н. В. Здобнову о своей новой иркутской публикации:
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Kelly11 июль 05:50
Хорошо написанная книга, каждая глава читалась взахлёб. Всё описано так ярко: образы, чувства, страх, неизбежность, словно я сама...
Не говори никому. Реальная история сестер, выросших с матерью-убийцей - Грегг Олсен
Kelly11 июль 05:50
Хорошо написанная книга, каждая глава читалась взахлёб. Всё описано так ярко: образы, чувства, страх, неизбежность, словно я сама...
Не говори никому. Реальная история сестер, выросших с матерью-убийцей - Грегг Олсен
-
 Аноним09 июль 05:35
Главная героиня- Странная баба, со всеми переспала. Сосед. Татьяна Шумакова....
Сосед - Татьяна Александровна Шумкова
Аноним09 июль 05:35
Главная героиня- Странная баба, со всеми переспала. Сосед. Татьяна Шумакова....
Сосед - Татьяна Александровна Шумкова
-
 ANDREY07 июль 21:04
Прекрасное произведение с первой книги!...
Роботам вход воспрещен. Том 7 - Дмитрий Дорничев
ANDREY07 июль 21:04
Прекрасное произведение с первой книги!...
Роботам вход воспрещен. Том 7 - Дмитрий Дорничев