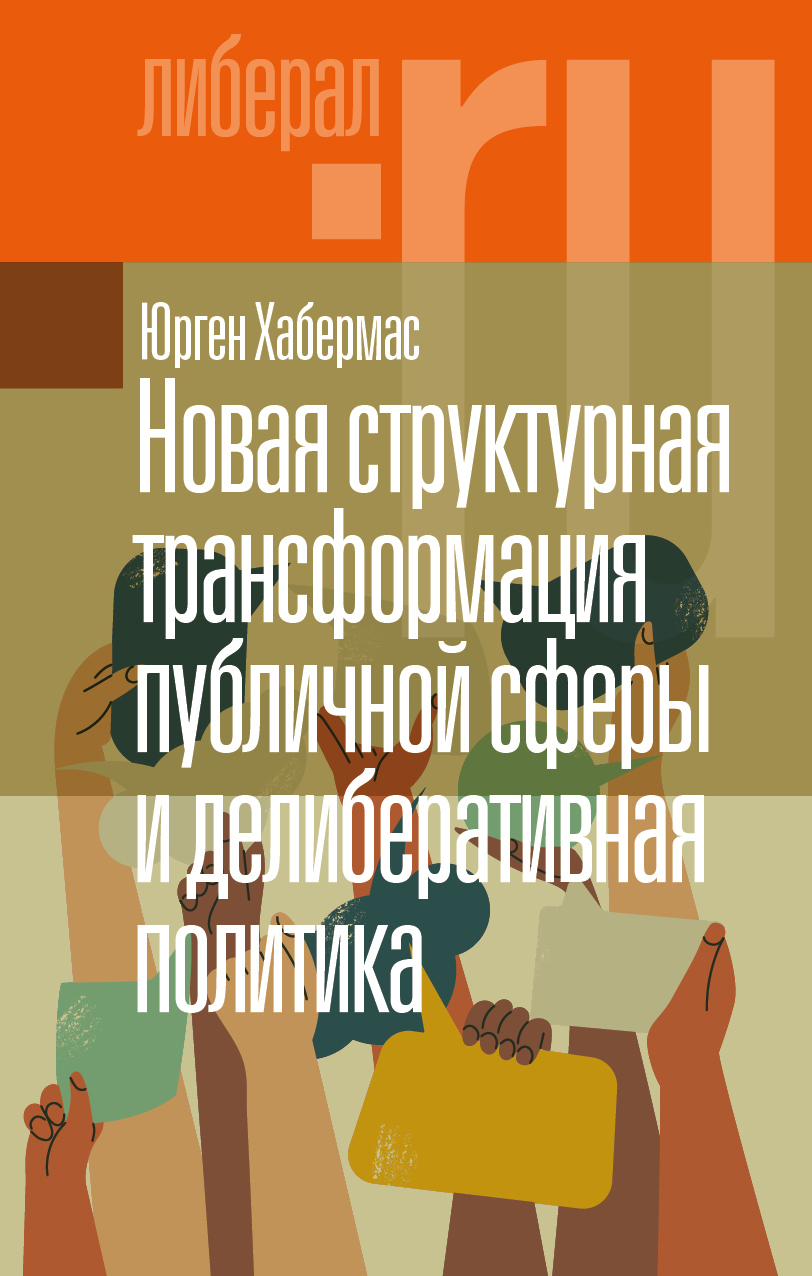«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас
Книгу «Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Для возрождения прагматизма в США никто не сделал больше, чем Рорти вместе с нашим общим другом Диком Бернстайном. Во многом мы по-разному смотрели на эту традицию, и потому темы для дискуссий просто не иссякали, но все-таки прагматизм составлял для нас общее основание, вполне крепкое, когда речь заходила о Дьюи и о вопросах политической теории. Общность базовых политических убеждений была для нас необходимой предпосылкой, поскольку теория морали и теория истины вызывали у нас самые ожесточенные споры. Дик очень твердо придерживался этики сострадания, идущей от Юма, а также своих понятийных представлений об истине: реалистических, но и релятивистских в то же время. Общеизвестный факт: Рорти был не только успешным автором – интеллектуальным виртуозом высшего разряда, умевшим провоцировать дискуссии и всегда выдвигавшим остроумные идеи, – но еще блестящим стилистом и восхитительным оратором. Мы постоянно встречались и много дискутировали в публичной сфере: соперником в спорах он был, мягко говоря, непростым. Мы с ним принимали участие в одних и тех же конференциях, проходивших как в Германии и США, так и в других странах: Польше, Сербии, Франции. Дик говорил, что меня и Деррида он понимает лучше, чем мы сами понимаем себя и друг друга. Когда мы вместе получили почетные докторские степени в Сорбонне, для Рорти это стало каким-то особым удовлетворением.
Вспоминая теперь наши многочисленные дискуссии, я описал бы эти отношения как в первую очередь «взаимообучающие». Наши контрастирующие позиции очень ясно проявлялись благодаря широкому общему фону, благодаря взаимодополняющим общим предпосылкам. Кроме того, именно Дик, пожалуй, открыл мне глаза на своего учителя Уилфрида Селларса: хотя еще в шестидесятые годы я брался было за диссертацию по его трудам, только благодаря Рорти я действительно понял революционное значение работ Селларса для критики ментализма и для фундаментального обоснования лингвистической прагматики. Когда я под конец девяностых преподавал в Эванстоне, Рорти прислал мне книгу Селларса «Empiricism and the Philosophy of Mind» в новом издании, которое сам Рорти подготовил вместе со своим учеником Робертом Брэндомом[11]; тексту предпослано было рукописное посвящение, в котором Дик, как обычно, приуменьшал свои заслуги: «I expect to be footnoted in the history books as the man who told Brandom about Sellars – a twisted link in the chain» [«Полагаю, что в учебниках истории сделают сноску обо мне как о человеке, который рассказал Брэндому о Селларсе, – как о кривом звене в общей цепи»].
За три года до этого Брэндом опубликовал свою «Making It Explicit»[12]. Со своим выдающимся учеником Рорти познакомил меня еще раньше, на небольшой и узкоспециализированной конференции в Шарлотсвилле. В этом историческом месте Томас Джефферсон спроектировал впечатляющий архитектурный план нового университета в классицистском стиле, – теперь это Виргинский университет, – со внушительным главным зданием (в котором располагается библиотека), венчающим длинный и строго симметричный комплекс факультетов; за каждым из малых зданий выстроены европейского типа столовые, в которых southern gentlemen [южные джентльмены] наслаждались кулинарными изысками континентальной культуры. Здесь, после своего бегства из Принстона, Рорти преподавал на протяжении многих лет.
О выходе главной книги Брэндома – а это и вправду выдающийся труд! – Дик возвестил мне со словами: вот именно та семантика, которой так не хватало моей формальной прагматике. Собственно, такое же значение эта книга приобрела и для меня: я нашел в ней логическую семантику на прагматической базе дискурсов. Чтение было не из легких и даже изнуряло, но в итоге работа Брэндома так захватывала и наполняла таким удовлетворением, что я даже удивлялся: подобный читательский опыт открывался мне только в молодые годы, да и то изредка. Решающий идейный импульс для собственной работы крайне редко приходит при чтении чужих трудов: если честно, то в большинстве случаев таких книг (еще реже – статей) назвать можно не больше дюжины, а подчас и полдюжины набирается с трудом. С Брэндомом я потом еще несколько раз встречался: сначала в Эванстоне, а затем во Франкфурте и Мюнхене. Говорили мы в основном о тех лекциях, с которыми он выступал. Не могу сказать, что я узнал Брэндома по-настоящему, как человека; в глаза всегда бросалась его яркая внешность: бородатый философ, именно такой, каким в былые времена вообще представляли себе настоящего философа. Не знаю к тому же, как Брэндом относится к моей теории (в своих публикациях – за исключением небольшого специального посвящения – он ссылается на меня лишь мимоходом): принял ли он ее к сведению или же он, главным образом, вспоминает обо мне как о друге своего высокочтимого учителя.
Кого еще можно вспомнить из Ваших американских коллег?
Совершенно другими – не как с Рорти – были мои отношения с Джоном Сёрлом; его труды, кстати, я прочел еще до личного знакомства. В середине шестидесятых годов – изучив труды Витгенштейна, Остина и представителей английской школы языкового анализа – я начал вникать в лингвистику и углубился в дискуссию, запущенную тогда Ноамом Хомским; здесь я и наткнулся на очень зрелую и целостную теорию речевых актов, предложенную у Джона Сёрла[13]. Книга Сёрла проложила мне путь к формальной языковой прагматике, посредством которой я сумел ответить на основной вопрос социологической теории действия, касающийся порождающих условий социальной интеракции: как интенции действия у Ego могут органично увязываться с таковыми у Alter? Я подступил к этому вопросу на основе анализа речевой интерсубъективности, и так возникла теория коммуникативного действия. Именно эта языковая концепция, развитая из соотнесений типа «Я – Ты» и гумбольдтовского системного взгляда на личные местоимения – над ней я работал еще с боннских времен, еще вместе с Апелем, – и сделалась в конечном итоге камнем преткновения в наших отношениях с Сёрлом[14].
Вы имеете в виду его ментализм?
Именно так. Я даже не предполагал, что за теорией речевых актов стоит этот самый ментализм. С Сёрлом мы лично познакомились в 1980 году, когда я проводил семестр в Беркли. Я посетил тогда его семинар (проводимый совместно с Хьюбертом Дрейфусом) по гуссерлевскому жизненному миру как языковому «фону» коммуникации; а потом Сёрл и Дрейфус вместе пришли уже на мой семинар по Максу Веберу (я, по приглашению Роберта Беллы, преподавал на социологическом отделении). Контакт с Сёрлом, прямой и непосредственный, а в скором времени – открытый и дружеский, оказался для меня и полезным, и в социальном отношении приятным. В политическом плане Сёрл поддерживал протестующих студентов, хотя, как и я, относился он к этому движению с долей критики. Он всегда умел чем-нибудь удивить. Помню, как за ужином вдруг оказалось, что Сёрл еще и знаток хорошего вина; он даже завез в Калифорнию «цинфандель», австрийский сорт винограда. В середине восьмидесятых я пригласил его во Франкфурт на летний семестр, а к тому времени он уже опубликовал свою книгу «Intentionality», в которой теория речевых актов, вопреки своим витгенштейновским предпосылкам, уже пошла на резкий поворот в сторону ментализма[15].
На семинарах (вели мы их вместе с Апелем) по этому поводу разразились жаркие споры. Сёрл отличился точными и остроумными замечаниями, Апель – пламенными репликами. Сёрлу – а он любил «покататься» по немецким автострадам на своем здесь же купленном «мерседесе» – все это, кажется, представлялось забавным. Но в последующие годы, когда мы с Апелем в том числе и публично оспаривали серловский ментализм, тональность становилась все жестче, а аргументы – все беспощаднее, в том числе и по стилю. Потому в публичной сфере я даже не стал обсуждать более позднюю попытку Сёрла вывести – совершенно без учета языковых аспектов – ключевые социологические понятия из базового представления о коллективной интенциональности. В каком-то
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова