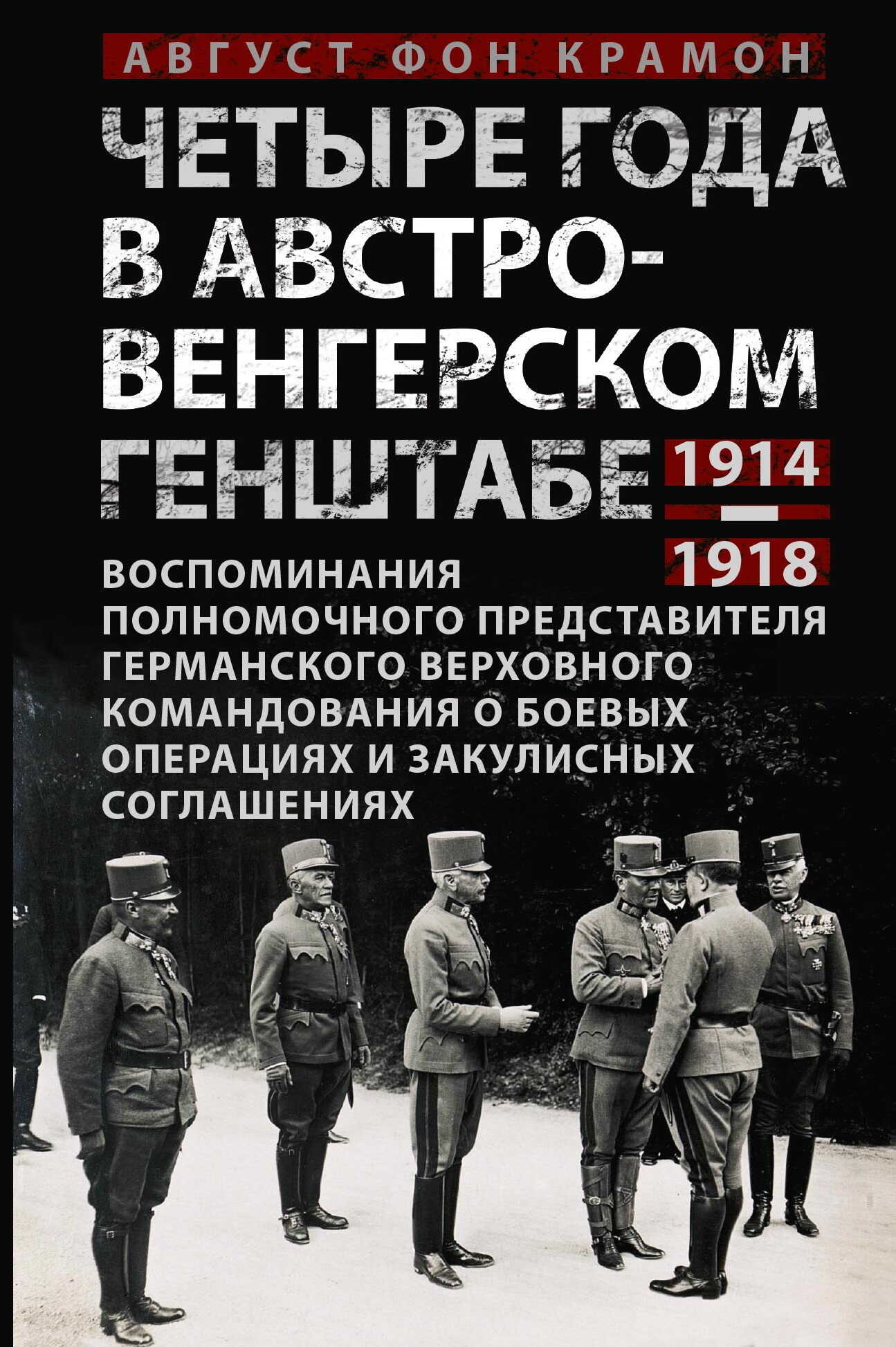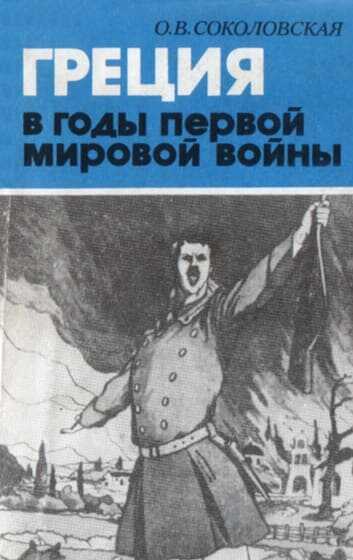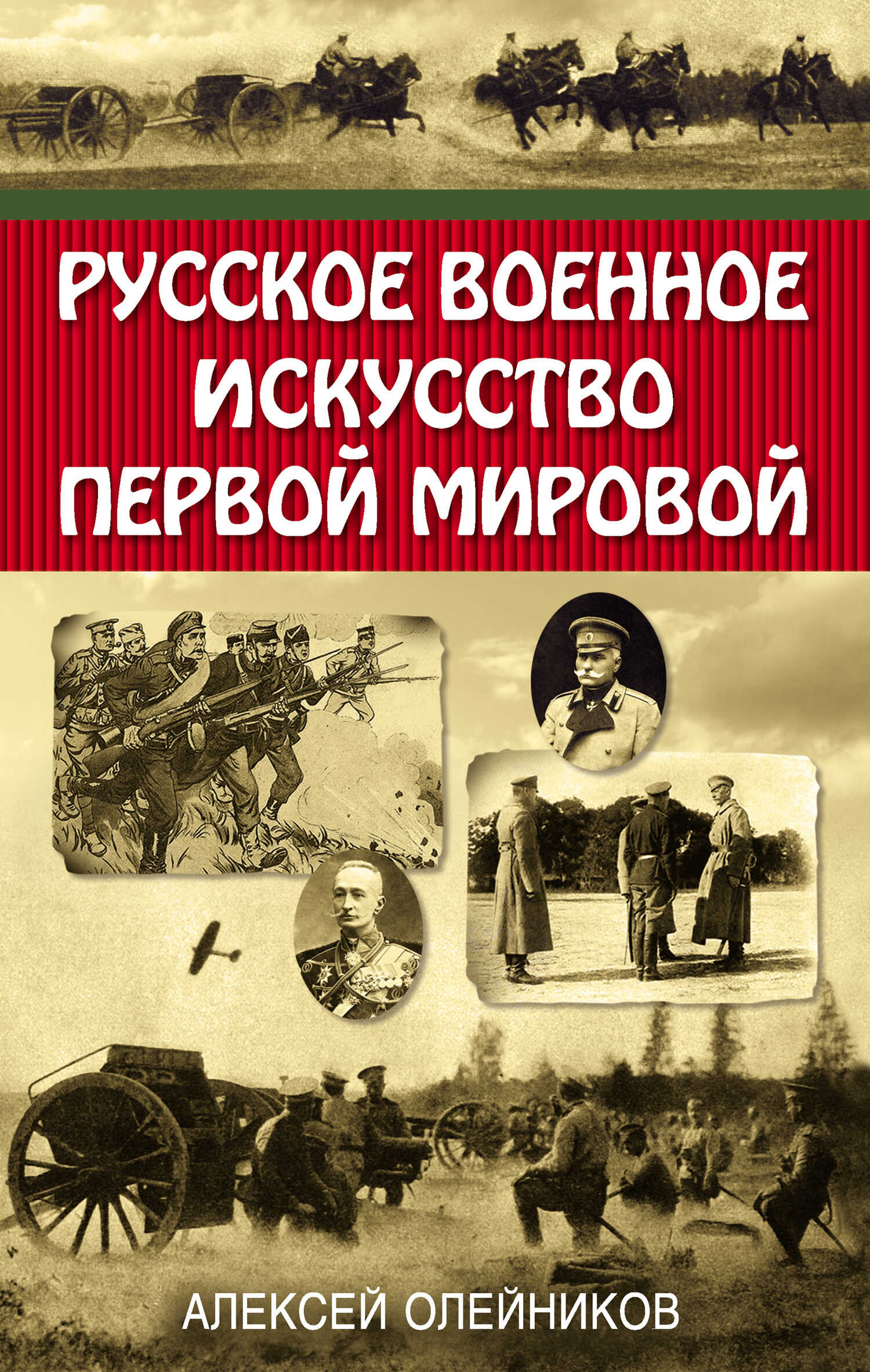«Другой военный опыт»: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922) - Оксана Сергеевна Нагорная
Книгу «Другой военный опыт»: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922) - Оксана Сергеевна Нагорная читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
ОБРАЗ ПЛЕННЫХ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ЭМИГРАЦИИ
Несмотря на иные мотивы инструментализации опыта военного плена в среде русской военной эмиграции, на материале ее публикаций можно отследить использование сходных мнемонических стратегий вытеснения и перетолкования. Страдания и героизм пленных здесь описывались с целью мифологизации старой русской армии и утверждения определенной социальной группы, помещенной в чужую среду и нуждающейся в самоидентификации, как ее части. Несомненно, и в этом случае противоречия индивидуальных переживаний должны были быть стерты через выработку и трансляцию определенных образцов толкования.
К разряду устойчивых мифологем, положенных в основу переработки переживаний плена, относится представление о непобедимости и несгибаемости духа пленных в их верности Царю и Отечеству. Офицеры, по воспоминаниям, были готовы пожертвовать благосостоянием своих семей, чтобы не дать врагу возможность лишний раз убедиться в недееспособности русских государственных структур. Мемуары обращаются также к устойчивому образу свободолюбивых казаков, в частях которых «плен по традиции считали не несчастьем, а позором, потому даже раненые казаки пытались бежать, чтобы смыть с себя позор плена»[1455]. Кроме того, при выстраивании структур памяти характерно замещение реальных событий уже существующими в культурной памяти устойчивыми образами. Так, П.Н. Краснов в своих публикациях эмоционально описывает попытки пленных отрубить себе пальцы, чтобы только не работать на врага и не совершить, тем самым, предательства против родины и союзников[1456]. Прямым прообразом данной мифологемы представляется созданная в период Отечественной войны 1812 г. и отраженная в скульптуре легенда о крестьянине, отрубившем себе руку с клеймом Наполеона.
В воспоминаниях, опубликованных в эмиграции, неотъемлемым элементом объясняющего повествования оставались антисемитские лозунги: «Евреи-переводчики, евреи-заведующие партиями — это было одним их самых тяжелых бытовых явлений плена. Они контролировали почту, доносили на строптивых». Кроме того, в евреях уже тогда проявлялась способность совершить более масштабное предательство (революцию), так как «они знали язык, но не были русскими и не любили Россию»[1457].
Иначе, чем на территории, занятой большевиками, в мемуарах эмиграции представлена реакция военнопленных на известие об Октябрьской революции в России. В отличие от советских подданных, эмигранты вспоминают не эйфорию, а решимость и четкое осознание, что «врагом номер один стали теперь большевики»[1458].
Резюме
Репатриация солдат и офицеров царской армии превратилась для советского правительства в своеобразное экспериментальное поле, где первоначально оставалось достаточно свободного пространства для социальной активности организаций и населения. Неподготовленность государственных институтов к эвакуации и импровизационный характер предпринимаемых шагов превратили передвижение военнопленных на большевистской территории (как и в сфере влияния белых правительств) в гуманитарную катастрофу. Тем не менее, опыт регулирования крупных потоков способствовал складыванию основ советской миграционной политики, типичными чертами которой стали политическая фильтрация, стигматизация подозрительных элементов, массированная пропаганда и ориентация на использование доступных трудовых ресурсов в интересах государства. Выработанные в ходе репатриации правовые нормы были впоследствии распространены на другие социальные категории (например, на интернированных в Германии красноармейцев и ветеранов гражданской войны).
В сравнении с восточноевропейскими странами в Советской России, где в миф основания государства были возведены революция и Гражданская война, ветераны и жертвы Первой мировой войны не стали первостепенным объектом социальных устремлений новой власти. Очевидные трудности государственных ведомств, стремившихся к монополизации контроля над социальной сферой, вынудили их прибегнуть к использованию ресурсов благотворительных комитетов. Разнонаправленность интересов и пропасть между центром и периферией обусловили в конечном итоге провал политики социального обеспечения бывших военнопленных старой армии, в особенности инвалидов. Реальная маргинализация статуса бывшего военнопленного в сфере социального обеспечения способствовала отказу от него и добровольному переходу в другие категории (красноармейцев, сотрудников советских организаций и т. д.), гарантировавшие лучшие позиции в новом обществе.
Долгожданное прибытие бывших пленных на родину не означало для них возвращения к мирной жизни. В раздираемых Гражданской войной обществах они оставались объектами мобилизационных мероприятий различных правительств. Подстраивание к новой ситуации осложнялось разрушением привычных связей в городской и сельской местности, а также враждебным отношением бывших соседей. Поэтому репатрианты активно обращались к опыту военного плена и использовали усвоенные в заключении стратегии: уход от тотального контроля, встраивание во властный дискурс, апелляцию к образу жертв прежнего режима, скрытое сопротивление и активное противодействие власти.
После поражения антибольшевистских формирований часть бывших пленных солдат и офицеров не пожелали оставаться в России и оказались в эмиграции. Рядовые относительно быстро растворились в рядах иностранной рабочей силы, офицеры вошли в состав военной эмиграции, существуя на пожертвования благотворительных организаций или поступив на военную службу в новообразованных государствах.
Переработка переживаний плена в рамках раннесоветской и эмигрантской дискуссии о войне превратилась в поле столкновения властных, групповых и индивидуальных мнемонических нарративов. Советским органам, практиковавшим жесткие приемы при манипулировании и использовании коммуникативной памяти, удалось поставить процесс воспоминания под свой контроль и навязать вернувшимся свое толкование мировой войны. Участие в инициированном и контролируемом властью обсуждении обеспечивало бывшим военнопленным доступ к необходимому маргинальной группе социальному и политическому капиталу. Степень нивелирования воспоминаний подчеркивается идентичностью толкований плена в мемуарах вернувшихся в Советскую Россию из Австрии и Германии и их отличиями от публицистики эмиграции.
Заключение
В коллективной памяти и исследовательской традиции лагерь по праву стал одним из символов ушедшего столетия. Возникнув в XIX в. как спорное и осуждаемое международной общественностью явление, с началом Первой мировой войны он превратился в неотъемлемое средство ведения военных действий и опыт миллионов. В отличие от своего более позднего варианта — лагерей уничтожения — места содержания военнопленных в Первую мировую войну обладали многими чертами переходного типа, соединив в себе традиции предыдущей эпохи (стремление стран-участниц соответствовать образу цивилизованного государства, уважительное отношение к военной элите противника, проницаемость границы между лагерем и его окружением) и новые радикальные тенденции (репрессии, принудительный труд, национальную и политическую агитацию).
Важным элементом преемственности и одним из решающих факторов, сформировавших структуры немецкого плена,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова