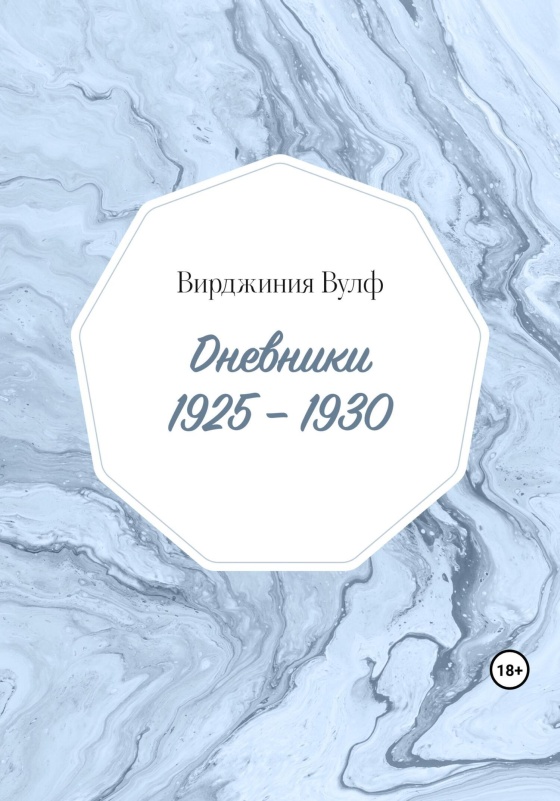приехал сюда позавчера вечером после самого странного приключения в темное время суток по Северной Бельгии в попытке найти комнату и кровать для сна. В понедельник я поехал в Антверпен – хотел провести там день и снова посмотреть картины. Когда я приехал туда, в городе не было ни одной свободной комнаты. Я прошел бесчисленное количество миль пешком – вниз к докам и по старым узким улочкам города. Наступила ночь, улицы кишели людьми – все они, я полагаю, имели комнаты. Это стало казаться кошмаром. Я находился всего в тридцати пяти минутах езды от Брюсселя, но это была уже другая жизнь. На протяжении нескольких кварталов вокруг вокзала не было ничего, кроме кафе и гостиниц; десятки маленьких винных магазинов и таверн – настоящих борделей – закрытых, и все они были полны людей. Были огромные танцевальные залы с полами шириной в пол-акра, кишащие сотнями пар – солдаты со своими сумками и клерки со своими девушками. Попасть туда можно было за франк. Миллионы маленьких магазинчиков были переполнены сосисками, книгами, пирожными, галстуками и так далее. И миллиарды людей – таких бесконечных, какими могут быть только маленькие шустрые люди с темной кожей. Все это я увидел и снова пошел искать место для сна. Наступила полночь, ужасный шум на улицах, казалось, усилился, а кровати все не было. В двенадцать сорок я забрался в маленький поезд с багажом и понесся сквозь тьму Фландрии в маленький городок Мехелен – на полпути к Брюсселю. Я добрался туда в час ночи и нашел двух бандитов с полуразвалившимся такси, которые следующие полчаса возили меня по темным и грязным переулкам, останавливаясь в самых отвратительных на вид местах, чтобы попросить комнату. В одном или двух я отказал, еще в нескольких мы не смогли разбудить управляющих: в конце концов мы снова оказались возле вокзала перед маленьким грязным питейным заведением, закрытым на ночь. Постучав молотком, мы разбудили грязного человека с всклокоченной бородой на верхнем этаже, поднялись на четыре пролета по покосившейся лестнице, и устроили меня в грязную комнату с кроватью, которая воняла от грязных покрывал. Но я устал и хотел отдохнуть – в тот день я прошел двадцать миль, – я запер дверь, попробовал ее на прочность, снял одежду и лег на кровать – я не собирался проваливаться между этими проказливыми простынями. Затем трое негодяев начали разговаривать в соседней комнате – мужчина и двое его приятелей, официанты или бармены, вероятно, в его кафе. Перегородка между ними была как бумага; они начали говорить тихим бормотанием, потом все быстрее и громче, по мере того как возбуждались. Я услышал, как один сказал, что попросил у меня 15 франков за комнату и был большим дураком, не попросив у «англичанина» тридцать. Потом они начали шептаться, потом снова громко говорить, потом шептаться. Потом они стали комически тихими; я достал свою большую трость, которую ты купила для меня в Лондоне, и держал ее рядом с собой на кровати; я взял свой ботинок и положил его на стул, а второй положил рядом с собой. Я ждал. Свет на привокзальной площади проникал через окно у моей головы и отражался на железной решетке маленького фальш-балкона у моих ног. Я мог видеть все очень хорошо. Я тихо лежал и ждал. После трех часов ночи они попробовали это сделать. Один из них очень тихо сел на пол, который ужасно скрипел, открыл свою дверь и вышел. Затем в свете с площади я увидел, что ручка моей двери очень мягко двигается. Я спрыгнул на пол с самым кровожадным воплем, который ты когда-либо слышала, и запустил в дверь ботинком. Шум был страшный; наверное, они подумали, что гунны снова на них напали. Он как ужаленный вернулся в свою комнату, и они все вместе заговорили в большом возбуждении. Чтобы [убедиться в этом?] вдвойне, я начал петь и громко разговаривать сам с собой, время от времени ударяя тростью о стену и разражаясь внезапными приступами безумного смеха. Потом маленькие поезда начали визжать и пыхтеть, проносясь по рельсам в пятидесяти ярдах от меня, и пара экспрессов из Брюсселя прогрохотала мимо, площадь начала заполняться людьми и повозками, наступило утро. Тогда я понял, что со мной все в порядке; я лег на свою драную раскладушку и заснул. Я вернулся в Брюссель в полдень, зашел в «Amexco», чтобы узнать, нет ли неожиданных писем или сообщений, поел, собрал остальной багаж и в [14:50?] поехал в Германию. Когда я приехал сюда, мне показалось, что у меня талант выбирать самые неудачные времена и самые неудачные места. Я забыл сказать тебе, что неприятности в Антверпене были вызваны съездом эсперантистов – отовсюду! [В августе 1928 года в Антверпене проходил ежегодный Всемирный конгресс эсперантистов. Эсперанто – это искусственный язык, созданный Людвиком Заменгофом в 1887 году. Он до сих пор существует и предназначался для использования в качестве международного второго языка] Ты никогда не слышала такого многообразия языков! Здесь проходит огромный съезд, как я полагаю, прессы. Опять нет комнат; я провел ночь в семье немецкого рабочего, но на этот раз – можешь быть уверена – в чистых простынях. Вчера утром я поднялся рано, чтобы найти номер в гостинице с ванной. Я нашел несколько, и обосновался в этом месте – скромном для среднего класса, но очень чистом. У меня очаровательная комната примерно за 1,50 доллара в день. Почему при всех разговорах о непогрешимом французском вкусе и немецкой грубости эти люди хотя бы могут обставить гостиничный номер обоями и постельными принадлежностями, не похожими на люкс «А» в борделе?
И вот я снова среди немцев. Солидность и тяжеловесность всего, что было после Франции и Бельгии, поражает; эти люди очень величественны и велики, и очень жестоки. Я смотрел на них вчера вечером в кафе, пока они пили пиво и слушали, как задумчивый оркестр играет Бетховена. У мужчин большие массивные головы, широкие брови и глубокие глаза, способные на великие творения. А под всем этим – свиные щеки, маленькие пучеглазые глазки, бритые шеи, надутые животы. Мне кажется, это одна из самых трагических вещей, которые я когда-либо видел, – союз грубиянов и богов. Не французы, не англичане, не американцы привели этот народ к поражению и гибели, а он сам: его музыка и литература показывают, до каких духовных высот он может подняться, а все остальное – безнадежно запутано. Приезжая сюда, я всегда пугаюсь еды – и ты знаешь, как это должно быть страшно. Когда я
 Ма08 март 22:01
Почему эта история находится в разделе эротика? Это вполне детектив с участием мафии и крови/кишок. Роман очень интересный, жаль...
Безумная вишня - Дария Эдви
Ма08 март 22:01
Почему эта история находится в разделе эротика? Это вполне детектив с участием мафии и крови/кишок. Роман очень интересный, жаль...
Безумная вишня - Дария Эдви
 Ма04 март 12:27
Эта книга первая из серии книг данного автора, их надо читать в определении порядке чтобы сохранить хронологию событий: 1. Илай и...
Манящая тьма - Рейвен Вуд
Ма04 март 12:27
Эта книга первая из серии книг данного автора, их надо читать в определении порядке чтобы сохранить хронологию событий: 1. Илай и...
Манящая тьма - Рейвен Вуд
 Ма04 март 12:25
Эта книга последняя из серии книг данного автора, их надо читать в определении порядке чтобы сохранить хронологию событий: 1....
Непреодолимая тьма - Рейвен Вуд
Ма04 март 12:25
Эта книга последняя из серии книг данного автора, их надо читать в определении порядке чтобы сохранить хронологию событий: 1....
Непреодолимая тьма - Рейвен Вуд