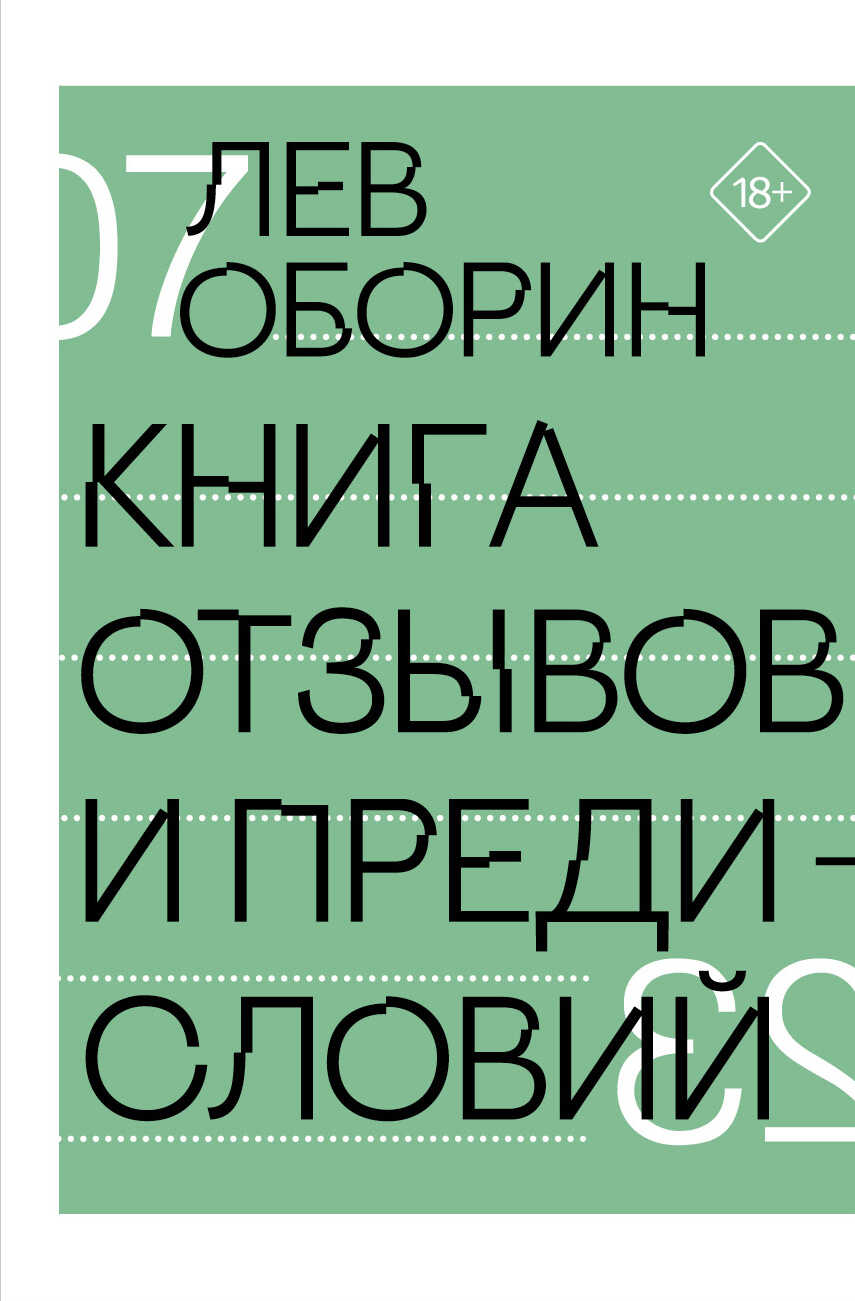Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин
Книгу Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Метаморфоза, как мне представляется, свершилась в середине 90-х. В этом смысле примечателен – кстати, очень яркий, бросившийся в глаза, – «переходный» сборник «Красная Москва» 1997 года. Перечитывая его теперь, находишь сегодняшнюю салимоновскую поэтику в почти готовом виде. И все же. Что-то с тех пор неуловимо, но существенно изменилось.
Ушли затесавшиеся кое-где нотки иронизма, не стало чисто словесной игры, стали скупее детали, а главное, напрочь исчезла та самая доступная пересказу фабула. Сами стихотворения сделались короче. Стиль обрел абсолютную законченность.
Нужна большая смелость, чтобы не оставить в своих стихах ни украшения, ни зацепки, ни подсказки будущему читателю: только голую поэзию. Похожий случай был с Тютчевым и Фетом, неприлично краткими и (особенно Фет) «бессодержательными» по тем временам. И неслучайно первого полжизни не замечали, а у второго шестьсот экземпляров сборника раскупали чуть не двадцать лет. И хотя стихи Салимона все же покупают, нет уверенности, что всякий раз, купив и прочитав, понимают, с чем имеют дело. Тут в пору поменять местами части вынесенного в заголовок мнимого оксюморона: сложность прочтения определена кажущейся простотой. Философские миниатюры легко принять за «пейзажики».
Тот, кто следит за стихами Салимона, знает, что он обильно печатается, да еще и публикует из написанного далеко не всё. Вообще-то стихотворцы с большим подозрением относятся к чрезмерной плодовитости собратьев. Полагая – и по большей части небезосновательно, что за таким многописанием стоит набитость руки (по сути означающая самоповтор, эксплуатацию приема) – отсутствие сопротивления материала.
Это – почти правило. И тем интересней понять исключение. Задуматься о порождающем его творческом механизме, а значит, и об «устройстве» этих стихов.
Думаю, тут мы имеем дело с довольно редким не только в русской, но и вообще в поэзии явлением. С индивидуальной устойчивой поэтической формой.
Владимиру Салимону посчастливилось найти такую форму – емкую и абсолютно адекватную своему творческому я. Одновременно и жесткую, и гибкую, позволяющую и почти мгновенно отливать в нее поэтическое впечатление (с чего всегда начинается работа поэта), и варьировать, множить, не повторяясь, при решении конкретной поэтической задачи.
Ближайшее приходящее на ум сопоставление – сонет (тоже форма весьма продуктивная!). Хотя, конечно, в нашем случае мы имеем дело с куда менее строго регламентированным в «арифметическом» смысле строением стихотворения – но почти столь же устойчивым по внутренней архитектонике.
Принципиальное отличие в том, что этим изобретением вряд ли кто еще сумеет воспользоваться: в нем запечатлена не столько структура развертывания образа, сколько непосредственно тембр голоса, его интонация. Та самая, которая «в стихотворении» является «свидетельством душевной деятельности» (Бродский).
В этой форме отразилась личная интонация Салимона. Она не подойдет другому.
Хорошее стихотворение всегда предполагает максимальное количество поэтических событий на минимальном пространстве. Каждая новая строка, каждое слово должны не просто что-то добавлять к предыдущему, но и несколько менять смысл уже сказанного, а концовка – в идеале – перестраивать всю перспективу словесного сооружения.
Стихи Салимона, как правило, начинаются с некой мелочи, непосредственного, часто – чисто зрительного впечатления, почерпнутого в окружающей природе или в повседневной жизни, с детали пейзажа или бытовой сценки – и это непосредственное впечатление сразу обеспечивает подлинность высказывания.
Ветерок ли меня обдувает,
перелетная птица крылом
ненароком в плечо ударяет,
или глупая баба толкает
огромадным и грязным узлом.
Вообще-то, уже тут не обошлось без толики сюрреализма. Ткнувшаяся в плечо перелетная птица, пожалуй, требует от повествователя оказаться в тех высях, где пролегают эти самые воздушные миграционные пути. Правда, баба с узлом возвращает нас на землю. И следующая строка – первая в новой строфе – стирает между ними разницу:
Я большого не вижу отличья.
Однако тут-то и начинаются метаморфозы. Продолжение строфы не только круто меняет обзорную точку повествования, но и заставляет усомниться, относилась ли эта строка-фраза к сказанному прежде – либо к далековатому по смыслу последующему:
В том, что сущность Его без конца –
постоянно меняет обличья,
проявляется воля Творца.
Многообразие Творца чудесным образом переплелось с многообразием мира, где перелетная птица соседствует с какой-то отягощенной поклажей бабой. Причем и та и та уже отпечатались в нашем сознании, образовали некий реалистический антураж, отчего умозрительная вроде бы сентенция также обрела плоть.
Но это пустяки по сравнению со смысловым кувырком, поджидающим в заключительном четверостишии:
Не катящийся без остановок
по пустынным бульварам трамвай –
сотни, тысячи божьих коровок
покидают навек отчий край.
Въехавший как бы невпопад в стихотворение трамвай тут же обращается миграцией насекомых (или человеческих букашек?) и подвешивает тот самый элегический полувопрос-полузаключение о бренности взыскующего вечности мира с его трамваями, бабами с тюками, с его обсыпанными мигрирующими жучками подмосковными садами и наверняка вечными разве что птицей и самим Творцом.
Высказывание завершилось, едва начавшись, но успело вместить все: экспозицию, кульминацию, финал.
Его можно было бы зачислить по разряду поэтического абсурда – если бы не абсолютная внятность чувства, просветляющего все темно́ты. В итоге первоначальный набросок обратился едва ли не в коротенькую притчу. Но даже когда он так и остается зарисовкой, «картинкой», то столь пронзительной, что из нее сквозит вечность.
Для проверки впечатления желающие могут самостоятельно проследить эволюцию других салимоновских стихотворений, ну хоть вот этого:
Что у деда под ватником – дело известное.
А у Бога за пазухой – Царство Небесное.
Но глядят с пониманьем они друг на друга.
Нет, никак не сойти им с привычного круга.
Тут налево Рязань, а направо Калуга.
Здесь Москва за чужими хоронится спинами.
За полями, лесами, дубами, осинами.
На маленьком пространстве течение стиха по несколько раз круто меняет направление и даже русло. И это одна из причин, почему Салимона почти невозможно цитировать фрагментами: весь смысл в этом движении, в этих поворотах, за пределами которых все кажется так просто, что впору заговорить о примитивизме.
А вообще-то это похоже на полет подхваченного потоком воздуха бумажного листка, касающегося, кувыркаясь, то оголенной ветки, то повисшей в небе луны, то пивного ларька – и вдруг ложащегося на землю в каком-то привокзальном скверике, запечатлев на себе разом и то, и другое, и третье: и черную вывихнутую ветку, и мраморный лунный диск со следом скульпторского резца, и самого автора в галошах на босу ногу, гоняющего ледок по замерзшей луже. Да еще и комментарий ко всем этим видениям, написанный
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
Артур01 август 01:14
"Там, где лес не растëт", конечно, тяжëлая книга... Концовка слëзы выжимает нещадно. ...
Там, где лес не растет - Мария Семенова
-
 Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
Гость Наталия30 июль 23:31
Спасибо автору. Книга интересная, увлекательная, легко читается, оставляет приятные впечатления. Желаю автору дальнейших...
Королева драконов - Анна Минаева
-
 Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова
Гость Татьяна30 июль 22:31
Душевная книга, очень люблю Михалкову, произведения всегда сочные, с неожиданным концом. Много личных историй героев, читаются...
Посмотри, отвернись, посмотри - Елена Ивановна Михалкова